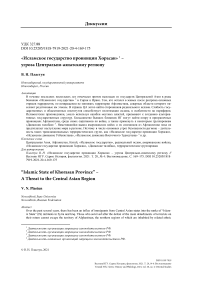«Исламское государство провинции Хорасан» * – угроза Центрально-азиатскому региону
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В течение последних нескольких лет отмечался приток выходцев из государств Центральной Азии в ряды боевиков «Исламского государства» * в Сирии и Ираке. Тем, кто остался в живых после разгрома основных отрядов террористов, по возвращении не миновать территории Афганистана, северные области которого населяют родственные им этносы. В странах ЦА легко найти сторонников радикального ислама. Слабость государственных и общественных институтов способствует политизации ислама, в особенности на периферии. Исламистские проповедники, умело используя ошибки местных властей, призывают к созданию альтернативных государственных структур. Большинство бывших боевиков ИГ могут найти опору в приграничных провинциях Афганистана, среди своих соратников по войне, а также примкнуть к некоторым группировкам «Движения талибан» *. Наметившийся вывод американских войск и их союзников из Афганистана пока не предполагает наступление мира в регионе. Поэтому в числе основных угроз безопасности региона – деятельность таких транснациональных террористических групп, как «Исламское государство провинции Хорасан», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана» * и др. * Деятельность названных организаций запрещена законодательством РФ.
Центральная Азия, Афганистан, Китай, «Исламское государство», радикальный ислам, американские войска, «Исламское государство провинции Хорасан», «Движение талибан», террористические группировки
Короткий адрес: https://sciup.org/147220285
IDR: 147220285 | УДК: 327.88 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-4-169-175
Текст научной статьи «Исламское государство провинции Хорасан» * – угроза Центрально-азиатскому региону
Plastun V. N. “Islamic State of Khorasan Province” – A Threat to the Central Asian Region. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 4: Oriental Studies, p. 169–175. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-204-169-175
Международный терроризм (полагаю, было бы точнее использовать термин «транснациональный терроризм») давно нарушил многие государственные границы. Так было (и остается) после появления 29 июня 2014 г. так называемого Исламского государства (ИГ, ДАИШ), известного ранее как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), которое провозгласило себя халифатом 5. В те годы на территорию Ирака и Сирии, захваченную игиловцами, стали прибывать их сторонники из разных стран Востока и Запада. Основные вооруженные силы этого террористического квазигосударственного образования были разгромлены общими усилиями России и международной коалиции во главе с США. Тем не менее, остатки вооруженных группировок по-прежнему представляют собой угрозу цивилизованному миру и в первую очередь – центрально-азиатскому региону, куда перемещаются уцелевшие сторонники отрядов ИГ.
Из пяти новых независимых государств, возникших на среднеазиатском постсоветском пространстве после распада СССР, три – Республика Узбекистан, Республика Таджикистан и Республика Туркменистан – имеют общую границу с Исламской республикой Афганистан (ИРА). Афганистан, в свою очередь, граничит с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном и КНР. У Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) – общая граница с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе – с Пакистаном. Население всех вышеназванных стран региона исповедует ислам, и этот факт значительно облегчает задачу исламистов-сепаратистов в части агитации за создание халифата.
Напомним, что еще в октябре 2001 г. США и их партнеры по НАТО вторглись в Афганистан под лозунгом «борьбы с международным терроризмом», который «на протяжении десятилетий был эффективным инструментом реализации геополитических интересов ряда государств и транснациональных структур» [Арешев, 2015. С. 16]. Аналогичные выводы правомерно сделать и в отношении региона Центральной Азии.
На территории Афганистана основной противник центрального правительства – «Движение талибан» (ДТ), которое контролирует значительную часть сельской территории страны. Своей основной задачей ДТ считает изгнание из страны иностранных войск. Оно также не признает и правительство Исламской республики Афганистан (ИРА), считая его «американской марионеткой».
В последние годы появлялась информация о новых экстремистских группах в регионе ЦА. Правительство КНР видит угрозу в деятельности одной из основных уйгурских террористических организаций – Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ). Эта группировка появилась в 1993 г. и реорганизовано в 1997 г. Главная ее цель – борьба за создание независимого мусульманского государства на территории Синьцзяна. В 2002 г. ООН признала ИДТВ террористической организацией. Некоторые авторы считают, что «вплоть до 2005– 2007 гг. ИДВТ было децентрализованной “зонтичной” структурой для различных уйгурских боевиков в Афганистане и Пакистане», а в настоящее время «преемницей» ИДВТ стала Исламская партия Туркестана (Turkestan Islamic Party), которая наиболее активна в Сирии и Афганистане [Сизов, 2020. С. 145]. В конце января 2016 г. представители ИДТВ объявили о своем присоединении к «новому суннитскому альянсу» – «Комитету по освобождению Шама» («Хайат тахрир аш-шам») 6. В первой декаде февраля 2017 г. в Сирии о вступлении в «Комитет» заявили боевики из Кыргызстана и Узбекистана («Катибат аль-таухид валь-джихад»). Они же сообщили о присоединении к альянсу узбекской группировки «Катибат аль-Имам Бухари». Эта последняя в свое время была союзником талибов в войне против правительства ИРА, но затем объявила о своей поддержке ИГ. Талибы, открыто выступившие против ИГ, посчитали действия узбекских боевиков предательством и в ноябре 2015 г. атаковали военный лагерь «Катибат аль-Имам Бухари» в провинции Забуль (Афганистан), уничтожив более 60 боевиков 7. Таким образом, «Хайат тахрир аш-шам» включила в свои ряды три ключевые группировки выходцев из ЦА и СУАР (всего около 20 тыс. боевиков) 8. Все они могут впоследствии стать «инструментом влияния» в руках ИГ и «Аль-Каиды».
Отслеживая связи между различными террористическими группировками, Китай, как и другие государства региона, готов способствовать стабилизации обстановки там, где затрагиваются его интересы. Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И, после встречи с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши в августе 2020 г., заявил, что «диалог и переговоры – единственный выход из афганской проблемы», «важно придерживаться основного принципа мирного прогресса под руководством афганцев и… никто не должен использовать ситуацию для личной выгоды». Сам «Афганистан должен неуклонно бороться с терроризмом и проводить внешнюю политику мира и дружбы». Одновременно Ван И подчеркнул, что «иностранные вооруженные силы должны выводиться ответственным и упорядоченным образом, чтобы террористические силы не воспользовались возможностью вызвать беспорядки» 9.
В мае 2015 г. на афганской территории появился третий игрок – группировка «Исламское государство провинции Хорасан 10» (ИГПХ). Это сторонники «Исламского государства», также выступающие за создание «всемирного халифата». В течение последних двух лет их численность выросла до 10 тысяч в «пиковый сезон» (в обычное время – 4–5 тысяч) 11. Действия группы были очень жестокими: обезглавливание и публичные казни, изгнание из домов десятков тысяч семей, закрытие школ и больниц. Ее боевики появились в пяти провинциях Афганистана, однако добиться видимого успеха им удалось в провинции Нангархар, которая фактически превратилась в штаб-квартиру ИГПХ. Имеется информация о том, что Нангархар одно время превратился в центр производства героина, который переправлялся в Пакистан, а оттуда в Турцию и Европу 12. Доходы от героинового бизнеса привлекают не только командиров ИГ, но и полевых командиров ДТ. Поэтому в Нангархаре боевикам ИГ приходится воевать не только с правительственными силами и войсками НАТО, но и с талибами, которые стремятся устранить конкурента уже и на рынке сбыта наркотиков.
Международные эксперты уверенно полагают, что в условиях крайней нестабильности в регионе и попыток участников конфликта достичь согласия деятельность ИГПХ значительно усложняет ситуацию. Например, доцент Центра по борьбе с терроризмом (The Combating Terrorism Center) и Департамента социальных наук Военной академии США в Вест-Пойнте д-р Амира Джадун пишет: «Существование организации [ИГПХ] в регионе влечет за собой последствия для международной безопасности; в силу того что она является важной ветвью прочного транснационального бренда, ее цели подкрепляются идеологией, которая выходит за рамки национальных границ и часто пересекается с идеологией других воинствующих групп» 13.
Лидеры ДТ сначала приняли в штыки появление новоявленных претендентов на главенство в вооруженной оппозиции Кабулу. Начались боестолкновения между талибами и отрядами ИГПХ. Парадокс, конечно, но талибам в их борьбе против ИГПХ невольно оказывает помощь военная авиация США. Цель американцев состоит отнюдь не поддержке своих давних врагов – талибов, но ситуация складывается по известной формуле «враг моего врага – мой друг». В результате вынужденно совместных действий талибов и американцев территория, контролируемая ИГПХ, заметно сузилась.
Появление и временное усиление позиций ИГПХ объясняется, во-первых, слабостью как центрального правительства, так и местных талибов, и, во-вторых, усилением и жизнеспособностью небольших «кочующих» групп боевиков-салафитов 14, воюющих в рядах талибов. Ни афганское правительство, ни талибы не в состоянии объединиться для борьбы против общего врага. Группировка ИГПХ воспользовалась слабо контролируемой Кабулом ситуацией, усугубляемой необузданной коррупцией и неспособностью правительства управлять. Правительство беспомощно наблюдало за ухудшением ситуации, что позволило ИГПХ временно установить свою власть в ряде районов, где они или нейтрализовали, или же привлекли на свою сторону часть членов вооруженных групп талибов, которые в основном занимались криминалом.
ДТ остается самой сильной оппозицией правительству в Кабуле. В районах, подконтрольных талибам, «теневая» (параллельная) администрация обычно вытесняет правительственную. Но из-за разногласий в собственных рядах талибы не в состоянии в полной мере представлять альтернативу ИГПХ и правительству 15. В процессе распада, исчезновения и слияния мелких групп, усиления влияния салафитов часть талибов и «кочевых» группировок явно и скрытно стремится под знамена ИГПХ. По мнению аналитиков AAN (The Afghanistan Analysts Network), салафиты не имеют прочной идеологической опоры на территориях, контролируемых талибами, которые привержены ханафитскому масхабу 16 в исламе.
Хотя в последнее время иногда наблюдались признаки сближения салафитов и талибов. Этому способствует, в частности, фактор «джихадистского прагматизма», т. е. в районах, где имеется количественное преимущество салафитов, талибы вынуждены с ними сотрудничать. И, наоборот – там, где салафиты оказываются в меньшинстве, они предпочитают принять руководство талибов.
Руководство ИГПХ, по некоторым сообщениям, летом 2017 г. даже объявило войну России как месть за действия российских войск в Сирии. Боевики «пообещали атаковать цели на территории РФ, используя для этого своих сторонников – выходцев из Центральной Азии и Северного Кавказа» 17.
В 2020 г. от пакистанского крыла ДТ и ИГ откололась группировка, объявившая о создании группировки «Ансар газват уль-хинд» как филиала ИГ в Кашмире. Она ведет бои «с индийскими военными и полицейскими, организует нападения смертников» 18.
Как известно, между руководством ДТ и представителями США в течение продолжительного времени велись переговоры о выводе войск США и НАТО из Афганистана. В феврале 2020 г. между сторонами было подписано соглашение, предусматривавшее постепенный вывод войск на определенных условиях. В обмен на вывод талибы (в числе других обязательств) обещали не поддерживать связей с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками. Однако, как считают эксперты, талибы иногда прибегали к негласному сотрудничеству с американцами в своей борьбе с ИГПХ, «но также считали, что США слишком широко определяют понятие “терроризм” и неохотно делились информацией о более мелких группировках боевиков, которые они не считали опасными» 19. Судя по всему, ДТ считает ИГПХ опасным противником не с точки зрения боеспособности этой группы, а из-за ее тактики – действия смертников-самоубийств, которые приписываются талибам в тот самый момент, когда они ведут переговоры о мире с правительством Кабула. Такое поведение ИГПХ сеет недоверие между двумя основными сторонами в конфликте – правительством и ДТ. Правительство поспешно обвиняет талибов, хотя никто не берет на себя ответственность. Некоторые аналитики полагают: гораздо более вероятно, что это дело рук ИГПХ. Другие убеждены в том, что «афганское правительство все еще использует угрозу ИГ для собственной выгоды» 20.
И правительство ИРА, и талибы неоднократно сообщали о том, что они победили ИГПХ, что правительственные силы в Кабуле арестовали несколько ключевых лидеров ИГПХ. Некоторые наблюдатели считают, что ИГПХ представляется незначительным игроком в конфликте. Но факт остается фактом: ИГПХ действует, несмотря на сообщения о том, что с 2015 г. более 10 тыс. его боевиков были убиты или захвачены в плен 21.
Обращает на себя факт, отмеченный одним из ведущих экспертов по группировкам боевиков Борханом Османом. Касаясь социального состава ИГПХ, он писал, что значительное число тех, кто присоединяется к ИГПХ в центральных городских районах, происходят из семей, которые можно обозначить как «средний класс». Многие из них – представители этнических меньшинств Афганистана, получившие высшее образование. У одной трети опрошенных членов группировки «обнаруживается примечательная особенность – их выдающиеся интеллектуальные достижения». В столичной ячейке ИГПХ «есть несколько университетских профессоров, студентов-отличников и успешных выпускников шариатского, юридического, химического, инженерного и литературного факультетов, которые часто финансируются государством. Наибольшее количество новобранцев, присоединившихся к группировке, составляют выпускники трех университетов: Кабульского, Нангархарского и Университета им. Аль-Бируни» 22. По мнению многих наблюдателей, афганское правительство имеет «непрозрачные отношения с ИГПХ». Некоторые аналитики предполагают, что Кабулу выгодно сотрудничать с ИГПХ, чтобы обвинять талибов в любом террористическом акте. На военную кампанию против ИГПХ в Нангархаре афганское правительство выделило значительные военные ресурсы, но не предпринимало действий, что явно пошло на пользу талибам. Аналитики объясняют это тем, что «ИГПХ явно активизировалась в ответ на сделку между США и талибами…, назвав ее доказательством того, что талибы являются кафирами и неверными... За несколько месяцев до февраля [до подписания соглашения между ДТ и США] ИГПХ не совершила ни одного инцидента в Кабуле, но в дни, предшествовавшие церемонии подписания, она возобновила свою деятельность с удвоенной силой» 23.
Движение талибан категорически отвергает обвинения, объясняя террористические акты провокацией со стороны ИГПХ. Так, 12 августа представитель талибов З. Муджахид заявил, что боевики ИГ планируют нападение на талибов, освобождаемых из тюрьмы Пули-Чархи в Кабуле согласно указу президента ИРА Ашрафа Гани. Он отметил, что этим актом они пытаются сорвать межафганские переговоры. В том же сообщении говорится, что боевики ИГ «могут совершить нападение при посредничестве афганской разведки» 24. Складывается впечатление о том, что ИГПХ действительно опасается мирного соглашения между США и ДТ, оказавшись между двух огней – правительственной армией Афганистана и отрядами талибов. Заключение мирного соглашения между правительством ИРА и ДТ может заставить их объединиться в общей борьбе против сторонников «халифата». Тем более что, как упоминалось выше, ИГ не обладает сильным влиянием в стране. По официальным оценкам, в составе отрядов ИГПХ может находиться всего 4–6 тыс. боевиков. К тому же, по информации службы безопасности Афганистана, «до 10 % членов ДТ могут перейти на сторону ИГИЛ» после сделки между США и ДТ. Талибы пока достигли единого мнения среди своих местных командиров по условиям мирного соглашения с Кабулом 25. Часть талибов, недовольных мирным процессом или не видящие от него для себя выгоды, могут присоединяться к ИГПХ.
Продолжается также раскол и «перетасовка» в рядах пакистанских талибов, которые служат прикрытием для суннитских вооруженных группировок «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), воюющих по обе стороны пакистанско-афганской границы. Несколько членов ее руководства были убиты американскими беспилотниками, другие – нашли прибежище в Афганистане или бежали в Пакистан.
На этом фоне произошло объединение группировок «Джамат-уль-Ахрар» (ДжуА) и «Хизб-уль-Ахрар» (ХуА). ТТП заявило, что эти две группы присягнули его главе, муфтию Нур Вали. ДжуA участвовала в крупных акциях, в том числе в теракте террориста-смертника в Лахоре в 2016 г., который, как они заявили, был направлен против христиан. И ТТП, и ДжуА включены в «черный список» США. Аналитики ООН отмечали, что отряды пакистанских боевиков численностью 6–6,5 тыс. человек, часть которых связана с ИГПХ, представляют угрозу как для Афганистана, так и для Пакистана, в то время как эти две страны постоянно обвиняли друг друга в поддержке террористических группировок 26.
Член Академии наук ИРА Ахмад Шах Катавазай убежден в том, что «ИГПХ стремится сорвать мирную договоренность между США и ДТ, привлекая боевиков из более чем десятка стран, в том числе из Индии, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии и Сирии… Имея в своих рядах боевиков из Пакистана, Узбекистана и Таджикистана, ИГПХ получила возможность дестабилизировать Центральную Азию. Если ей удастся прочно закрепиться в Афганистане, то это станет одной из основных проблем для России и Ирана, которые рассматривают ИГПХ как группу с идеологией салафитов, направленную на дестабилизацию ситуации в Центральной Азии» 27. Следовательно, угроза для новых независимых государств региона по-прежнему актуальна.
Received
11.10.2020
Список литературы «Исламское государство провинции Хорасан» * – угроза Центрально-азиатскому региону
- Арешев А. Кто и как ведет Ближний Восток в «новое средневековье» // «Исламское государство»: сущность и противостояние: Аналитический доклад. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. C. 14–30.
- Сизов Г. А. Эволюция подходов китайского руководства к проблеме противодействия терроризму // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 2. С. 134–154.