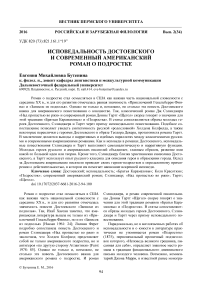Исповедальность Достоевского и современный американский роман о подростке
Автор: Бутенина Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 2 (34), 2016 года.
Бесплатный доступ
Роман о подростке стал осмысляться в США как важная часть национальной словесности с середины ХХ в., и для его развития отмечалась равная значимость «Приключений Гекельберри Финна» и «Записок из подполья». Однако не только и, возможно, не столько эта повесть Достоевского важна для американского повествования о юношестве. Так, классический роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и современный роман Донны Тартт «Щегол» скорее говорят о значении для этой традиции «Братьев Карамазовых» и «Подростка». В статье сопоставляются образы молодых героев Достоевского, Сэлинджера и Тартт через призму исповедального повествования. Подобное сопоставление позволяет увидеть синтетичность русской «родословной» Холдена Колфилда, а также некоторые переклички с героями Достоевского в образе Теодора Декера, протагониста романа Тартт. В заключение делаются выводы о нарративных и идейных параллелях между классическими русскими и современными американскими романами. Как и исповеди в романах Достоевского, исповедальные повествования Сэлинджера и Тартт выполняют самоаналитическую и нарративную функции. Молодых героев русского и американских писателей объединяет, главным образом, развитие ими какой-то большой идеи или теории. Кроме того, Сэлинджеру близка христианская символика Достоевского, а Тартт использует опыт русского классика для описания героя в обрамлении города. Вслед за Достоевским американские писатели приводят своих героев-подростков к определенному примирению с действительностью, в котором им помогает написание искренней исповеди.
Достоевский, исповедальность, "братья карамазовы", коля красоткин, "подросток", современный американский роман, сэлинджер, "над пропастью во ржи", тартт, "щегол"
Короткий адрес: https://sciup.org/14729451
IDR: 14729451 | УДК: 820 | DOI: 10.17072/2037-6681-2016-2-94-100
Текст научной статьи Исповедальность Достоевского и современный американский роман о подростке
doi 10.17072/2037-6681-2016-2-94-100
Роман о подростке стал осмысляться в США как важная часть национальной словесности с середины ХХ в., и для его развития отмечалась значимость повести Достоевского «Записки из подполья». Так, Ихаб Хассан заметил, что американская литература вышла не только из «Приключений Гекельберри Финна», но и из «Записок из подполья» [Hassan 1961: 24]; Лилиан Ферст подробно сопоставила повесть Достоевского и роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и заключила, что Холден Колфилд представляет собой не только американского подростка, но и антигероя «по другую сторону Атлантики» [Furst 1978: 85]. Однако не только и, возможно, не столько эта повесть Достоевского важна для американского романа о подростке. И роман
Сэлинджера, и роман современной писательницы Донны Тартт «Щегол» скорее говорят о значении для этой традиции романов «Братья Карамазовы» и «Подросток». В статье сопоставляются образы молодых героев Достоевского, Сэлинджера и Тартт через призму исповедального повествования.
Парадоксально, но в англоязычных работах об исповедальности и о юности в литературе практически не упоминается роман «Подросток» (1875), первоначальный ироничный подзаголовок которого, «Исповедь великого грешника, писанная для себя», определяет знаковое место романа в традиции фикционального дневникового письма молодого человека. Возможно, комментарий Джона Марри, в известной ранее моногра-
фии о Достоевском отнесшего этот роман в категорию текстов «меньшей значимости» [Murry 1916: х], определил мнение англоязычных критиков о нем на десятилетия. В 1965 г. американский «литературный лев», поэт и переводчик Кеннетт Рексрот, отчасти попытался восстановить справедливость в своей популярной книге «Перечитывая классику», представляющей собой короткие эссе о великих книгах от древности до современности. В главке о «Братьях Карамазовых» Рексрот отметил, что насмешка героев Достоевского над самими собой наиболее очевидна в романе «Подросток», «редко читаемом сегодня, хотя наиболее восприимчивые критики, начиная с Мейера-Грефе1, называли его раскрытием метода» писателя и его «величайшим романом». Далее Рексрот называет «Подростка» «почти пародией на “Дэвида Копперфильда” и комической вариацией всех любимых героев и ситуаций Достоевского», несколько туманно добавляя, что метод Достоевского в этом романе «становится сознательным и эксплицитным; посылы растворяются, а с ними и дилеммы ( the messages dissolve, and the dilemmas along with them )» [Rexroth 1986: 185-186].
В числе современных «восприимчивых критиков» – известный немецкий славист Хорст-Юрген Геригк, предпринявший убедительную попытку сопоставления «Подростка» и «Над пропастью во ржи». Исследователь отметил и мучительные попытки обрести отца или наставника, способного его заменить, и концентрированность действия, занимающего несколько дней, и терапевтическую функцию исповеди, в обоих случаях описывающей события почти годичной давности [Gerigk 1983]2, что принципиально отличает эти тексты от сюжетной главы «Записок из подполья», в которой зрелый герой рассказывает об эпизодах своей молодости. На статью Геригка полемически откликнулся Дональд Фиен , категорично называя ее «блестящей, но ошибочной» и предлагая взамен сопоставление Холдена Колфилда с Колей Красоткиным. Фиен приводит текстуальные доказательства того, что Сэлинджер рано прочел «Братьев Карамазовых» – ссылки на роман встречаются в его рассказах, – подробно сопоставляет переклички в эпизодах и религиозной символике двух романов и приходит к выводу, что двух подростков можно воспринять как цельный образ юного спасителя, мучительно мечтающего уберечь всех страдающих детей [Fiene 1987].
Многие параллели между двумя романами, действительно, поражают: в частности, пронзительный образ затравленного до смерти ребенка – умерший от мучительной болезни Илюша в
«Братьях Карамазовых» и покончивший самоубийством Джеймс Кастл в романе «Над пропастью во ржи». При чтении романа Сэлинджера нельзя не обратить внимание на совпадение инициалов этого мальчика с инициалами Христа: J ames C astle – J esus C hrist, и эта отсылка усиливается ремаркой Холдена «<…> он всегда был сразу передо мной на перекличке <„.> Касл, Колфилд» ( always right ahead of me at roll call . <...> Castle, Caulfield) (171) 3 . Так Касл, первым вызванный на перекличке, становится первозванным ( the first called ), а Колфилд чувствует свое предназначение последовать за ним.
Холдена Колфилда и Колю Красоткина, безусловно, роднит сострадание к детям, предельная искренность, эмоциональность, ранимость, интеллектуальная развитость, что вызывает их нетерпимость, некоторое высокомерие и склонность дурачить окружающих ( horse around, в романе Сэлинджера повторенное многократно). В отличие от Холдена, Коля не пишет исповедь для воображаемого читателя, но обращает довольно длинные монологи о себе к своему конфиденту Алеше Карамазову. Оба мальчика стремятся независимо высказаться об официальной религии: по мнению Коли, «бог есть только гипотеза <…> для мирового порядка и так далее…»4 (XIV, 499), Холден же просто заявляет, что «он как бы атеист» (99). При этом и тот и другой непринужденно выказывают симпатию Христу. «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность <…>», - говорит Коля (XIV, 500), и ему вторит Холден: «Мне нравится Иисус и все такое», однако американский подросток сопровождает свое признание скептической тирадой о Библии и апостолах (99). Независимое мышление порождает критические высказывания мальчиков об образовании. Пылкая фраза Коли -«Классические языки, если хотите все мое о них мнение, - это полицейская мера, вот для чего единственно они заведены, <…> - они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют наши способности» (XIV, с. 498) – соотносима с нарочито пустым эссе Холдена о египтянах и его манкированием практически всеми школьными предметами.
Однако порыв Коли Красоткина «умереть за все человечество, а что до позора, то все равно: да погибнут наши имена» (XV, 190) по размаху и пафосу сильно отличается от мечты Колфилда «просто быть ловцом во ржи» (173). В Коле сильны честолюбие и тщеславие (прозрачно обозначенные в его фамилии), ему жизненно необходимо поклонение, к которому он относится снисходительно («предался мне рабски», «слушает меня как бога» (XIV, 479)), любые робкие попытки соперничества он безжалостно подавляет, а ради эффектной сцены способен на неосознанную жестокость (история с Жучкой). Холдену подобное стремление совершенно чуждо, ему нестерпимо практически любое общество, и даже в разговорах с любимой сестрой он порой испытывает неистовое раздражение. Его мечта -уединение с глухонемой женой в лесной хижине, где они «сами учили бы своих детей читать и писать» (199).
Разница между героями очень заметна в их отношении к чтению: Коле интересно найти в книгах что-то эффектное, чтобы произвести впечатление на публику (сразить учителя вопросом об основателях Трои или попытаться вызвать уважение Алеши Карамазова ссылками на Вольтера и Белинского, которых юный мыслитель пока «не то чтобы читал» или «не совсем читал» (XIV, 500–501)). Холден – тонкий читатель: в первой же строке своей исповеди он открещивается от «всей этой муры в духе Дэвида Копперфильда» (1), остро чувствуя ее сентиментальность; с монахинями говорит о Меркуцио как о любимом герое «Ромео и Джульетты» и о несправедливости, когда «кого-то убивают – особенно такого умного и веселого и все такое – по вине других» (111); о Лоуренсе Оливье в роли Гамлета метко замечает, что такому красавцу больше подошло бы играть «какого-нибудь чертова генерала, а не грустного, потерянного парня» (117). Сленговое словечко screwed up Холден вскоре использует и для описания собственного состояния после осознания своей ошибки в неловкой сцене с мистером Антолини (195). Наконец, вызывает душевный отклик «исправленная» героем отсылка к Бернсу в заглавной идее романа: на самом деле, поймать «кого-то вечером во ржи» гораздо важнее, чем просто встретить.
В раскрытии аллюзивной идентичности Холдена значимо, что единственный сданный им в школе предмет – литература и единственный учитель, к которому он мог обратиться за поддержкой, – учитель литературы мистер Антоли-ни, о котором рассказывается на той же странице, что и о ржаном поле (173). Только этот молодой учитель чувствовал, что сам Холден мог сорваться в «страшную пропасть» или «благородно умереть за какое-то абсолютно нестоящее дело» (187–188), и пытался его предостеречь.
Различия в натурах русского и американского подростков, конечно, объясняются в том числе разницей в возрасте, хотя в каком-то смысле они эмоциональные ровесники: Холдену в момент событий романа шестнадцать, но на первых же страницах своей истории он сообщает, что «иногда ведет себя, будто ему тринадцать» (9); Коля в разговоре с Карамазовым дважды настаивает, что ему «через две недели четырнадцать» (XIV, 483, 500). Холден как будто стремится задержаться в детстве, однако вслед за признанием в инфантильности говорит о своих седых волосах и о том, что часто «ведет себя гораздо старше своих лет, но люди никогда этого не замечают» (9).
Сэлинджеру был интересен самый амбивалентный возраст подростка: ровно посередине «тинейджерства», в английском языке четко обозначенного периодом между тринадцатью (thir teen ) и девятнадцатью (nine teen ) годами. Примечательно, что этот возраст занимает серединное положение и между двумя юными героями Достоевского: тринадцатилетним Колей Красоткиным и девятнадцатилетним Аркадием Долгоруким. Уже поэтому можно говорить о синтетичности русской «родословной» Холдена, у которого немало общего и с героем «Подростка». Помимо отмеченных выше наблюдений Геригка и Львовой, можно отметить романтическую мечту о недосягаемой возлюбленной: у Аркадия это совершенно недоступная ему богатая вдова Катерина Николаевна Ахмакова, а у Холдена – детская любовь Джейн Галлахер, которой он как будто может, но так за весь роман и не решается позвонить. В целом, противоречивость героя Сэлинджера, отчаянное одиночество, шутовская природа грубоватого юмора [Takeuchi 2007] сближают его и со многими другими героями Достоевского.
В качестве примера продолжающегося диалога американского повествования о подростке с исповедальной традицией Достоевского можно рассмотреть роман Донны Тартт «Щегол» (The Goldfinch, 2013), удостоенный Пулитцеровской премии и других наград. Донна Тартт – уроженка штата Миссисипи, и, хотя действие происходит на Юге только во втором романе писательницы, психологическом детективе «Маленький друг» (The Little Friend, 2002), в ее обращении к наследию Достоевского могло сыграть роль и южное происхождение. «Щегол» – третья книга Тартт, и, несмотря на обилие хвалебных отзывов, многие критики отмечали мелодраматический диккенсовский колорит этого романа воспитания (характерно, что рецензия Джеймса Вуда в «Нью-Йоркере» называется «Новая лавка древностей»). Действительно, недосягаемая Пиппа, ровесница тринадцатилетнего героя, которую он увидел в нью-йоркском Метрополитен-музее, когда там произошел взрыв, и полюбил на всю жизнь; их общий добрый покровитель Хоби, владелец нью-йоркской антикварной лавки, говорящий на некоем викторианском языке [Wood 2013]; многочисленные счастливые совпадения – все это может выглядеть странно, если не принять условие, что Тартт пишет литературную модернизацию.
Диккенсовский текст вполне естественно сочетается в романе Тартт с текстом Достоевского, намеченном уже в имени героя, Теодоре, «тезке» писателя. Коллизия романа построена на архетипической модели преступления и наказания: в роковой день взрыва загадочный умирающий старик просит Тео вынести из музея картину Карела Фабрициуса «Щегол», и мальчик, будучи в состоянии шока, выполняет эту просьбу. В течение многих лет его будут мучить страх разоблачения и невозможность расстаться с картиной, которую особенно любила его погибшая во время взрыва мать. Он будет привязан к этому полотну, как изображенный на нем щегол к своей жердочке.
Через несколько месяцев после взрыва отец Тео неохотно забирает сына от случайных опекунов и привозит в Лас-Вегас, где в их жизнь вскоре вторгается одноклассник Тео, таинственный эмигрант по имени Борис. Тео комментирует, что Борис и его отец Ларри любят проводить время за «интеллектуальными разговорами», «обсуждая известных игроков в русской истории: Пушкина, Достоевского и других, чьих имен я не знал» (р. 285; с. 296)5. Амплуа игрока в прямом и переносном смысле близко и Борису, и Ларри, и последнего оно вскоре приводит к самоубийству из-за долгов. Борис стремится обыграть жизнь, несмотря на незавидные исходные карты, и, узнав, что у Тео есть бесценная картина, незаметно ворует ее, сохраняя у того иллюзию, что содержимое запечатанного свертка осталось прежним. После этого Борис надолго исчезает из жизни Тео, и тот возвращается в Нью-Йорк, в лавку молчаливого антиквара Хоби, и взрослеет, практически предоставленный самому себе.
Рассказывая о взрослении Тео, Тартт использует опыт Достоевского для создания эмоциональной исповеди героя через призму восприятия им города. Дональд Фангер, исследуя творчество Достоевского как «наследника» романтического реализма Бальзака, Диккенса и Гоголя, отметил, что уже с «Петербургской летописи» Достоевский «открывает возможности завуалированной исповеди» своего рассказчика, фланера-мечтателя, которому свойственно новое «урбанистическое любопытство» [Fanger 1998: xv, 166]. Мечтатель Достоевского, как и фланер, описанный Беньямином, «ищет прибежище в толпе. <…> Толпа - это вуаль, через которую привычная городская среда подмигивает фланеру, как фантасмагория. В толпе город - то пей- заж, то жилая комната» [Беньямин 2013: 50]. Такое ощущение выражал герой «Подростка» в начале своей истории: «Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа» (XIII, 35). Радостное ощущение города посещает и героя Донны Тартт в нечастые минуты ощущения правильности совершенных поступков: так, выходя из хранилища, где он оставил мучивший его сверток с картиной, он ощущает головокружение и, словно впервые, видит «голубое небо и трубящее солнце», благодаря чему улица как будто «растягивалась в солнечное царство толпы и удачи» (396).
Однако зыбкость этого просветленного мироощущения выражена еще в монологах героя «Белых ночей» (1848): «Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, - живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, - а уж в тоске какая фантазия!» (II, 18-19). Петербургский мечтатель излагает эти мысли Настеньке, как будто счастливо встреченной судьбе, но чувствует, однако, что его фантазия о счастье иллюзорна. Такое же смутное предчувствие испытывает нью-йоркский герой незадолго до своей несостоявшейся свадьбы на богатой девушке, уведенной соперником: «Мы вместе вышли на улицу, в рождественское столпотворение, и на меня накатили тоска и растерянность; от зданий в праздничной упаковке, от переливов витрин гнетущая печаль только разрасталась: темное зимнее небо, серые каньоны мехов и драгоценностей, сила и сплин богатства» (480, 491).
Даже мечтателям порой свойственно экзистенциальное восприятие мира и города как его части. «Подпольные» же петербургские скитальцы Достоевского, производившие «впечатление чудаков или пьяных, а то и просто сумасшедших» [Анциферов 1991: 25], с фланерами-мечтателями имеют мало общего, и в «Преступлении и наказании» писатель противопоставляет эти типажи: «Любите вы уличное пение? - обратился вдруг Раскольников к одному, уже немолодому, прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. - Я люблю, - продолжал
Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, - я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают... - Не знаю-с... Извините... -пробормотал господин, испуганный и вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы» (VI, 121).
Подобное настроение близко герою Тартт: свое взросление Тео описывает как бесприютное скитальчество по промозглому городу, и многократно повторенные слова «бродить» ( wander ) и «туман» ( fog ) относятся не только к его прогулкам «под туманной короной уличных фонарей» Нью-Йорка (545), но и к пограничному состоянию между реальностью и невротическим безумием, нередко усиленным наркотиками. Третье ключевое слово воспоминаний Тео – dream , в английском языке имеющее значения и мечты, и сна, а для сироты, видящего мать только во сне, эти понятия становятся особенно неразрывны.
Существуя в таком амбивалентном состоянии, Тео даже не взглянул на свою бесценную картину, прежде чем оставить ее в тайнике, и о краже Бориса узнал лишь тогда, когда тот снова неожиданно возник в его жизни. Глава, в которой описывается это появление, называется «Идиот». При встрече Тео рассказывает своему пожизненному другу-врагу, как читал этот роман в программе русской литературы, выбранной им для подготовки в колледж, и представлял, будто слышит голос Бориса, когда-то несколько раз подряд читавшего книгу в оригинале. Борису не свойственна сентиментальность, но в ответ он выражает легкое раскаяние в своей краже, о которой, как он был уверен, Тео уже известно. Несмотря на естественную вспышку ярости и обиды, Тео снова не может устоять перед демоническим обаянием славянского афериста и в день своей несостоявшейся свадьбы следует за ним в Амстердам, чтобы попытаться найти уже кому-то проданную картину.
В последней главе герои, едва уцелев в криминальных разборках, сообщают о похитителях картины в полицию и получают вознаграждение за помощь в обнаружении краденых шедевров. После этого Борис разражается длинным монологом о своем понимании романа «Идиот» и заканчивает его такой идеей: «Если от добрых дел бывает вред, то где сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь как раз верный? Вдруг можно пойти по неверному пути и оказаться там, где хотел? Или иногда сделать все не так, а оно все равно выйдет, как надо?» (697, 708). В этом монологе Борис косвенно уподобляет Тео князю Мышкину, а сам выступает как своеобразный анти-Мышкин, никогда не стремившийся делать добро, но тем не менее невольно спасший запутавшегося Тео.
Исповедальность составляет одну из основ художественного и эссеистического наследия Достоевского [Holquist 1977; Розенблюм 1981; Frank 2010; Ковалев 2011 и др.]. Как и исповеди в романах русского классика [Криницын 2001], исповедальные повествования Сэлинджера и Тартт выполняют самоаналитическую и нарративную функции. Молодых героев русского и американских писателей объединяет, главным образом, развитие ими какой-то большой идеи или теории. Коля Красоткин и Холден Колфилд мечтали о спасительской миссии, Аркадий Долгорукий придумал, как стать Ротшильдом, чтобы обрести желанную свободу, Тео Декер открыл для себя существование некоего «промежуточного пространства», где можно найти и красоту, и любовь. Сэлинджеру близка христианская символика Достоевского; Тартт продолжает традицию описания героя в обрамлении города. При этом в образе юного нью-йоркского скитальца Тартт вполне сознательно создает параллели с романом «Над пропастью во ржи» (как до нее это делал, например, Дж. С. Фоер) и, возможно, не случайно дает своему герою фамилию, начинающуюся с «Д»: в перекличке, начатой Сэлинджером, Декер может следовать сразу за Колфилдом. Вслед за Достоевским американские писатели приводят своих героев-подростков к определенному примирению с действительностью, в котором им помогает написание искренней исповеди.
DOSTOEVSKY’S CONFESSIONAL NARRATIVE
Список литературы Исповедальность Достоевского и современный американский роман о подростке
- Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга . М.: Канон, 1991. 88 с
- Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: АдМаргинем Пресс, 2013. 144 с
- Геригк Х.-Ю. О «Подростке» Достоевского//Достоевский и мировая культура: альманах. М., 2012. № 28. С. 11-29
- Ковалев О.А. Нарративные стратегии в творчестве Ф.М. Достоевского. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 316 с
- Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии Ф.М. Достоевского. М.: Макс Пресс, 2001. 372 с
- Львова И.В. Ф.М. Достоевский и американский роман 1940-1960-х годов: дисс.... д-ра фи-лол. наук. Великий Новгород, 2010. 286 с
- Мотылева Т.Л. Достоевский и мировая литература//Творчество Ф.М. Достоевского. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 15-44
- Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского. М.: Наука, 1981. 367 с
- Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens, and Gogol. Evanston: Northwestern University Press, 1998. 307 p
- Fiene D. M. J. D. Salinger and The Brothers Karamazov: A Response to Horst-Jurgen Gerigk's «Dostojewskis Jungling und Salingers The Catcher in the Rye»//Dostoevsky Studies.1987. Vol. 4. Р. 171 -186. URL:http://sites.utoronto.ca/tsq/DS/08/171.shtml (дата обращения: 26.02.2016)
- Frank J. Dostoevsky: A Writer in His Time. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. 958 p
- Furst L.R. Dostoyevsky's Notes from Underground and Salinger's The Catcher in the Rye//Canadian Review of Comparative Literature. Winter, 1978. P. 72-85
- Holquist M. Dostoevsky and the Novel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977. 216 p
- Gerigk H. J. Dostojewskijs Jungling und Salinger's The Catcher in the Rye//Dostoevsky Studies. 1983. Vol. 4. Р. 37-52. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/DS/04/037.shtml (дата обращения: 26.02.2016)
- Hassan I. Radical Innocence: Studies in the Contemporary American Novel. Princeton: Princeton University Press, 1961. 362 p
- Murry J.M. Fyodor Dostoevsky: A Critical Study. London: Hogarth Press, 1916. 263 p
- Rexroth K. Classics Revisited. New York: New Direction Books, 1986. 214 р
- Takeuchi Y. On the Carnivalesque//J.D. Salinger's The Catcher in the Rye/ed. by Harold Bloom. New York: Infobase Publishing, 2007. Р. 99-105
- Wood J. The New Curiosity Shop. Donna Tartt's "The Goldfinch." October 21, 2013. URL: http://www.newyorker.com/magazine/2013/10/21/th e-new-curiosity-shop (дата обращения: 26.02.2016)