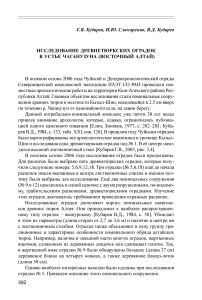Исследование древнетюркских оградок в устье Чаганузуна (Восточный Алтай)
Автор: Кубарев Г.В., Слюсаренко И.Ю., Кубарев В.Д.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521224
IDR: 14521224
Текст статьи Исследование древнетюркских оградок в устье Чаганузуна (Восточный Алтай)
В полевом сезоне 2006 года Чуйский и Дендрохронологический отряды Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН проводили совместные археологические работы на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Главным объектом исследования стали поминальные сооружения древних тюрок в местности Кызыл-Шин, находящейся в 2,5 км вверх по течению р. Чаганузун от одноимённого села, на левом берегу.
Данный погребально-поминальный комплекс уже почти 30 лет назад привлек внимание археологов, которые, однако, ограничились публикацией одного каменного изваяния [Елин, Зиняков, 1977, с. 202–203; Кубарев В.Д., 1984, с. 133, табл. XXI, изв. 126]. В прошлом году Чуйским отрядом были картографированы все археологические памятники в урочище Кызыл-Шин и исследована одна древнетюркская оградка под № 1. В её центре находился высокий лиственничный ствол [Кубарев Г.В., 2005, рис. 3,4].
В полевом сезоне 2006 года исследования оградок были продолжены. Для раскопок было выбрано пять древнетюркских оградок, которые получили следующие номера: 5,6,9,12,18. Три оградки (№ 5,6,18) ещё до начала раскопок имели вкопанные в центре лиственничные стволы и именно поэтому были выбраны для исследования. Ещё два поминальных сооружения (№ 9 и 12) находились в одной цепочке с двумя разрушенными, по-видимо-му, грабительскими раскопками, древнетюркскими оградками. Изучение этих оградок диктовалось требованием проведения охранных раскопок.
Исследованные оградки дополняют корпус поминальных памятников древних тюрок Алтая. Они принадлежат к наиболее распространенному типу оградок – яконурскому [Кубарев В.Д., 1984, с. 50]. Убеждает в этом их параметры (длина сторон от 2,7 до 3,6 м) и наличие в центре ям с лиственничным столбом. Оградки также объединяют в одну группу традиционные и характерные особенности поминального обряда алтайских тюрок. Например, наличие в западной части многих оградок, жертвенных ящичков, сложенных из деревянных дощечек или сланцевых плиток. Так, в жертвенной ямке оградки № 9 были обнаружены большое (длина 37 см) деревянное блюдо на четырех ножках, а также деревянное блюдо-лоток (длина 50 см).
Однако наиболее интересные находки были сделаны при исследовании оградки № 5. Приведем описание этого поминального сооружения.
Кызыл-Шин. Оградка № 5.
Оградка представляла собой сильно задернованное сооружение, сложенное из вертикально установленных плит и заполнения из мелких галек и рваного камня. Как выяснилось в результате его зачистки, нижний ярус кладки был сложен из массивных камней, а сверху заложен мелкими камнями и гальками. Углами оградка ориентирована по сторонам света. Сооружение далеко от классической квадратной или прямоугольной формы, т.к. длина его сторон заметно варьирует. Если северо-западная, югозападная и северо-восточная стенки оградки почти одинаковы по длине (270–290 см), то длина юго-восточной стенки составляла 322 см. Высота насыпи оградки 20-30 см.
В центре этого сооружения возвышался лиственничный ствол, диаметр которого в нижней части составлял 30 см, а высота от современной поверхности достигала 64 см. В верхней части ствол дерева(?) был обрублен и расщеплен. Вплотную к юго-восточной стенке вкопана сланцевая плита-стела, замещающая изваяние. Её размеры: 37 х 18 х 7 см. Несомненно, что её верхняя часть сколота и первоначально была значительно выше.
Необходимо отметить, что данная оградка сохранилась лучше всех остальных в Кызыл-Шине и лишь некоторые камни, преимущественно мелкие, были выброшены из её заполнения. Наибольшие разрушения оградки прослежены у юго-восточной стенки, – рядом со стелой-изваянием. Здесь, за пределы плит ограждения выброшено несколько крупных камней и мелкая галька. В результате расчистки оградки от земли и дерна, выяснилось, что одна плита стенки отсутствовала, а другая была разбита. Удивляет то, что остальные плиты оградки, несмотря на тяже сть каменного заполнения, сохранились в первоначальном вертикальном положении. Тем более, что эти плиты тонкие и тщательно обработанные. Юго-западная стенка была сооружена из трех плит (длина 96, 92 и 88 см). Северо-западная стенка насчитывала четыре плиты (длина 138, 54, 42 и 100 см). При этом, одна небольшая плита прикрывала стык между двумя другими плитами. Наконец, северо-восточная стенка также состояла из четырех плит (длина 36, 76, 66 и 76 см). Длина сохранившейся плиты из юго-восточной стенки достигала 104 см.
После зачистки и разборки насыпи оградки, в 20 см на запад от лиственничного столба зафиксирован массивный камень размерами 64 х 45 х х 23 см. После его снятия, в 30 см от лиственничного ствола обозначилась жертвенная ямка размерами 56 х 36 см, из которой наружу выступали мелкие камни (рис. 1). Таким образом, камень служил перекрытием ямки. После выборки земляного заполнения и мелких галек, на глубине 20 см от уровня древней поверхности был расчищен настил из четырех сланцевых плиток. Под ним оказалась небольшая камера, в которую почти не проникла земля. Сланцевые плитки перекрытия опирались на три деревянные стенки небольшого ящичка. Он имел одну торцевую и две продольных стенки, которые образовывали подобие треугольника. Размеры деревянно-
Рис. 1. Вид на оградку № 5 с выбранным заполнением и возвышающимся в центре лиственничным стволом в местности Кызыл-Шин.
го ящичка: 49 х 23-12 х 13 см. Деревянные дощечки отличаются прекрасной сохранностью. На них различимы следы обработки ножом и следы краски красного цвета.
В этом жертвеннике находилось достаточно массивное деревянное блюдо-лоток на ножках (размеры: 28,5 х 10 см), окрашенная красной краской деревянная палочка с утолщением и «наконечником» на концах (длина – 20,7 см, диаметр – 0,8-0,9 см). Не исключено, что это заколка для волос. В углу ящичка на блюде располагался миниатюрный деревянный сосудик в виде кувшина с ручкой (рис. 2). Его высота составляет 10,5 см, максимальный диаметр тулова – 6 см. Сосудик является вотивным изделием, т.к. он внутри не полый. Здесь же в блюде найдены крестцовые позвонки барана, а более мелкие косточки за его пределами. Эти позвонки свидетельствуют о том, что на блюдо была уложена наиболее почетная и вкусная, в понимании кочевников, часть барана –курдюк. В блюде также прослежены остатки хитиновых (?) оболочек от личинок червей, питавшихся мясом, и высохший, мумифицированный шмель.
К деревянному блюду «прикипел» фрагмент грубой домотканой ткани. Вдоль стенок ящичка также прослежен тлен от ткани или войлока. При дальнейшем углублении были найдены спекшиеся в два ряда панцирные пластины (размер фрагмента 11 х 5 см), небольшой железный нож и обломок железного насада стрелы. Глубина жертвенной ямки составила 31 см. Сохранность предметов из дерева объясняется наличием небольшой воздушной камеры. В верхней своей части предметы сохранились наиболее хорошо, в нижней – в месте контакта с землей – они значительно худшей сохранности. Несомненно, что сохранности дерева способствовала и сухая глинистая почва.
Лиственничный ствол возвышался над уровнем древней поверхности на 96 см. Верхняя, наземная его часть сохранилась отлично, средний, 394
закопанный в землю участок несколько худшей сохранности, тогда как низ ствола почти сгнил. Диаметр ямы, в которую был вкопан лиственничный ствол, составлял 40-45 см. Ствол был вкопан примерно на глубину 50 см и слегка забутован. Его общая высота составила 147 см.
Вдоль юго-западной стенки, за пределами оградки и на уровне древней поверхности была плашмя уложена массивная плита (размеры: 60 х 40 х x 12 см). После снятия плиты под ней были зачищены несколько перекрещивающихся деревянных плашек.
Древнетюркские оградки в местности Кызыл-Шин привлекли наше внимание, прежде всего, возвышавшимися в центре лиственничными стволами. Благодаря сухому и холодному климату Чуйской котловины и прилегающих к ней долин стволы листвен-

Рис. 2. Миниатюрный вотивный сосуд из дерева. Урочище Кызыл-Шин, оградка № 5.
ниц более тысячи лет простояли вкопанными в центре оградок и при этом прекрасно сохранились. Как показали раскопки оградок, лиственничные стволы были вкопаны на значительную глубину и для устойчивости забутованы камнями. Это свидетельствует о том, что первоначально здесь были вкопаны высокие столбы, а возможно и деревья. Лишь позднее они были обрублены и стёсаны. Вывод о том, что в центре многих древне- тюркских оградок вкапывались деревья, символизировавшие мировое или шаманское дерево, представляется нам более вероятным [Кубарев В.Д., 1984, с. 70–71; Войтов, 1996, с. 115–116].
Обнаруженная в оградках Кызыл-Шина деревянная посуда и некоторые другие предметы являются уникальными для погребально-поминальных древнетюркских памятников Алтая и сопредельных регионов. Следует отметить высокую степень сохранности и, как следствие этого, информативности этих материалов. И хотя остатки деревянной посуды не так уж редко фиксируются в древнетюркских погребениях и поминальных оградках [Кубарев Г.В., 2005, с. 67], целые экземпляры подобной посуды единичны. Хоро- шо сохранившиеся деревянные блюда на ножках и функционально близкие к ним лотки (с крышкой) найдены в некоторых древнетюркских памятниках Алтая (Табажек, поминальная оградка [Захаров, 1926, рис. 1, 3], Юстыд XII, курган 29 [Кубарев Г.В., 2005, с. 67, табл. 36, 1,2], Чатыр, погребение [Худяков, Кочев, 1997, рис. III, 2]) и Тувы (Кокэль-2, -13, -23 [Вайнштейн, 1966, табл. I, 6; табл. IV, 8; табл. VII, 14]). Несомненно, такие находки значительно расширяют наши представления о собственно бытовой утвари, а также об её роли в погребально-поминальной обрядности древних тюрок.
Значение исследованных оградок в местности Кызыл-Шин с позиций датирования памятников определяется наличием и хорошей сохранностью лиственничных стволов. В закопанной части они сохранились на всю первоначальную толщину, что позволит максимально точно зафиксировать год рубки деревьев. Взаимодополняющие друг друга радиоуглеродный и дендрохронологический методы позволят получить абсолютную дату сооружения этих археологических памятников. Учитывая, что существующая древесно-кольцевая хронология по древесине Алтая, полученная в Институте леса СО РАН [Овчинников, 2002], доведена сейчас от конца XX до середины VIII в. и имеет перспективу дальнейшего углубления, появляется наконец реальная возможность связать плавающие археологические дендрошкалы с абсолютно датированной древесно-кольцевой хронологией, что поднимает качество датирования памятников на совершенно новый уровень.