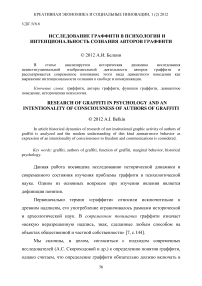Исследование граффити в психологии и интенциональность сознания авторов граффити
Автор: Белкин Антон Игоревич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Вещь в системе креативной экономики
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется историческая динамика исследования неинституциональной изобразительной деятельности авторов граффити и рассматривается современное понимание этого вида девиантного поведения как выражение интенциональности сознания к свободе и коммуникации.
Граффити, авторы граффити, функции граффити, девиантное поведение, историческая психология
Короткий адрес: https://sciup.org/14238912
IDR: 14238912 | УДК: 316.6
Текст научной статьи Исследование граффити в психологии и интенциональность сознания авторов граффити
Данная работа посвящена исследованию исторической динамики и современного состояния изучения проблемы граффити в психологической науке. Одним из основных вопросов при изучении явления является дефиниция понятия.
Первоначально термин «граффити» относили исключительно к древним надписям, его употребление ограничивалось рамками исторической и археологической наук. В современном понимании граффити означает «всякую неразрешенную надпись, знак, сделанные любым способом на объектах общественной и частной собственности» [7, c.144].
Мы склонны, в целом, согласиться с подходом современных исследователей (А.С. Скороходовой и др.) к определению понятия граффити, однако считаем, что определение граффити обязательно должно включать в себя психологический компонент, так как непосредственными детерминантами этого массового социального явления, по нашему мнению, являются социально-психологические факторы.
По нашему мнению, можно определить этот феномен следующим образом. Граффити – это любой знак, надпись, изображение, выполненные с помощью руки на объектах частной и общественной собственности, которые носят неинституциолизированный характер. В узком понимании мы рассматриваем граффити как сегменты психосемиотической системы, свойствами которой являются: отрыв означающего от означаемого, анонимность, конструирование символической идентичности.
Историко-психологическая динамика исследования этого явления, по нашему мнению, может быть разделена на несколько периодов.
Проведенный нами анализ исторических, археологических, искусствоведческих, социологических и психологических работ в области рассматриваемого феномена показал, что впервые интерес к граффити возник в рамках археологической и исторической наук . В этой связи можно обозначить первый период исследования граффити как феноменальноклассификационный, так как на протяжении длительного времени исследование граффити носило описательный характер, и только в 18 в. впервые началось научное изучение этого явления. Археологические исследования граффити проводились на территориях древних цивилизаций и средневековых государств, таких как: Древний Египет, античные города Греции, Италии и Северного Причерноморья, Руси 10-12 вв. и др.
В археологии появление первых граффити относят к эпохе палеолита (40-20 тыс. лет до н.э.), когда на стенах пещер и скалах были обнаружены наиболее древние рисунки, являющиеся первой формой фиксации и передачи культурного опыта. Появление новой формы коммуникации и передачи культурно-исторического опыта связывают с тем, что представители западных и северных племен в конце ледниковой эпохи полностью изменили свою культуру, перейдя от оседлой жизни к кочевой.
С середины 19 в. началась серия открытий, ставших возможными благодаря развитию научной археологии. Во многих стоянках найдены художественные произведения: силуэты зверей, узоры и загадочные знаки, вырезанные на кусках оленьих рогов, на костяных пластинках и каменных плитах, большие скульптуры животных, рисунки, резьба и рельефы на скалах.
Так, потомки палеолитических жителей Мальты и Бурети наносили граффити на скалы. В средине 20 в. вблизи деревни Шишкино, в долине реки Лены, исследователи обнаружили скалы, которые на протяжении 3 км. были покрыты рисунками. Одни рисунки были выполнены глубокими резными желобками, другие слегка протерты расплывчатыми пятнами, третьи процарапаны тончайшими, еле заметными линиями, четвертые выполнены красной краской различных оттенков.
Эти граффити представляют собой памятники искусства, идей и верований различных племен, которые являлись средством символизации образа жизни, трансляции культурно-исторических смыслов и передачи межпоколенного социального опыта. Среди многих сотен рисунков обнаружены изображения лосей, быков, верблюдов, всадников, птиц, пеших людей, повозок на быках, а больше всего – лошадей. Когда эти рисунки сопоставили с наиболее древними палеолитическими рисунками пещер Франции и Испании, они оказались удивительно сходными [5].
В пещере Монтеспан во Франции на стенах и потолках пещер – многочисленные изображения, большие и маленькие, частью вырезанные, а частью исполненные минеральными красками. В основном встречаются изображения животных, лишь изредка попадаются абрисы человеческих фигур и голов, ритуальных масок. Только позднее, в эпоху неолита, стали изображать сцены из жизни первобытного племени – охоту, сражения, пляски и обряды (6-4 тыс. лет до н.э.). Такие же изображения обнаружены в Испании (пещеры Альтамиры), в Сибири, на Дону (Костенки), в Италии, Англии, Германии и Алжире.
В искусстве палеолита преобладают изображения животных, а рисунков человека сравнительно мало. Характерны изображения женщин без прорисовки черт лица, с вздутым животом, громадными мешками грудей, которые символизируют роль женщины исключительно как сосуда плодородия. Это отражает парадоксальное отношение к человеку и животным в эпоху палеолита: к человеку оно преимущественно животное, а в отношении к зверю в изображениях присутствует больше человечности, восхищение его силой, почтение к нему как покровителю рода и высшему существу.
Искусство неолита по сравнению с палеолитическим искусством более условно, в нем преобладают не разрозненные изображения отдельных фигур, а связанные композиции и сцены, где человек впервые начинает занимать главное место в художественном изображении. Характерен схематизм изображения человека, рисунки животных более реальные, но уже не содержат осязаемой портретной формы.
Проведенный нами анализ показывает, что эволюция рисунка в палеолите и неолите отражала формирование новой ментальности человека, связанное с изменением условий его существования и структурировалось от акцентирования животной, бессознательной, архаической природы к человеку, к выделению его функций и роли как социального субъекта.
Особой формой знакового письма, реализующей не только коммуникативную, но и магическую функцию знака-символа, являются руны. По мнению специалистов, слово «руна» происходит от корня, означающего «нечто сокровенное», «тайну», а древний корень этого слова первоначально означал «шепот» или «рев», «вопрос» или «просьбу» [8].
Рунические надписи находят в самых разных частях Западной Европы, больше всего – в Швеции. Самые ранние рунические тексты найдены на территории Ютландского полуострова и прилегающих островов (3 в. до н.э.).
До того, как германские народы стали пользоваться алфавитной письменностью, они использовали пиктографические символы ballristningar, которые выбивали на скалах (1300 г. до н.э.). Среди последних встречаются изображения людей и животных, частей человеческого тела, мотивы, связанные с оружием, символы солнца, свастики и вариации на тему квадрата и круга. Руны вырезались на самых различных предметах, высекались на камне, чеканились на металле.
До настоящего времени спорным остается причина создания рун – как символов для гадания и магии или символов для письма. С самого начала руны выполняли ритуальную функцию и служили для бросания жребия, для предсказаний и обращений к высшим силам, способным повлиять на жизнь и благосостояние людей.
Другой подход к пониманию сути граффити сформулирован в искусствоведении, в котором граффити не рассматриваются как разновидность искусства, а считаются проявлениями предписьменной речи. В этом плане утверждается, что письменность появляется тогда, когда рисунки и знаки начинают копировать звуки разговорной речи. Письменная речь становится разновидностью устной речи стихийно, при этом самые ранние иероглифы, обнаруженные среди различных культур, например, египетские и китайские, или знаки финикийского или критского алфавита, имеют явное сходство друг с другом, а также с изображениями, знаками и символами, которые дети стихийно создают в процессе игры. Считается, что иероглифы становятся средством межплеменного социального общения, позволяющим преодолеть языковой барьер, так как их озвучивание осуществлялось специфическим образом для каждого племени, а значение было универсальным. Таким образом, первые изображения-граффити служили средством объединения людей, реализовывали идентификационную и коммуникативную функции [10].
Развитие письма как формы социальной практики, по мнению специалистов, проходит через стадии предметного письма, рисуночного идеографического письма, слогового употребления значений к современному словесному письму. Первоначальными формами письма являются примитивное предметное письмо и рисуночное письмо.
Примитивное предметное письмо старается выразить смысл сообщения, игнорируя его звучание . Его разновидностью является идеографическое письмо , которым пользовались народы доколумбовой Центральной Америки, когда мысль передавалось изображением, причем отдельный знак не соответствовал ни букве, ни слогу, ни слову, а передавал мысль, которую можно изложить целой фразой. В предметном письме между предметом, его пластическим изображением и рисунком не делается различия, они могут замещать друг друга. Для примитивного человека изображение вещи идентично самой вещи.
С появлением рисуночного письма изображение отрывается от предмета и переносится на различные материалы для письма, при этом рисуночное письмо служит не цели художественного созерцания, а является, прежде всего, средством коммуникации. Предметное и рисуночное письмо считаются предписьмом, так как с их помощью можно выразить только общий смысл сообщения, а не его точное звучание .
Специалисты считают эти формы письма (предметное, идеографическое) шагом к словесному письму, причем такое предписьмо содержит 3 основных элемента: изображение чувственно воспринимаемого (конкретного) посредством рисунка целого или его части; описание чувственно не воспринимаемого (абстрактного) посредством символа; передача звучания звуковым ребусом.
Однако современные граффити на самом деле не являются формой предписьма, так как, на наш взгляд, они не выполняют познавательной функции, которая для примитивного человека оказывалась жизненно необходимой для адаптации и выполняла универсальную коммуникативную функцию. Человек в условиях информационного общества, тотальной знаковой информационной среды, наоборот, живет в условиях избытка информации, множественности социальных форм идентичности, усложняющих процесс социальной коммуникации, принятия решения и выработку универсальных поведенческих стратегий.
С помощью современных граффити осуществляется символизация действительности и конструирование психосоциальной идентичности их авторов, при этом смысл дискурсивных граффити передается в основном с помощью словесного письма , а употребление слоговых значений практически не встречается, выполненные изображения не несут строго коммуникативной функции.
Основой письменности и искусства Древнего Египта была пиктография. Изображение для египтян – прежде всего знак, но не нечто условное, а священный знак, обладающий животворной силой. Создать изобразительный знак предмета значило сберечь и увековечить его жизненную силу. Письменность и искусство были частью религии, делом жрецов. Писцы считались служителями бога Тота, возносили ему молитвы и приносили жертвы. Письменность проделывала свою типичную эволюцию – от пиктографии к идеографии (где рисунок обозначает слово или понятие), а затем к слоговому и алфавитному письму. Считается, что египетское письмо содержит 3 типа знаков – слова-знаки (идеограммы), звуковые знаки («отдельные буквы») и немые пояснительные знаки.
С помощью знаков изображались не только конкретные объекты, но и абстрактные и психологические понятия, такие, как «душа».
Таким же Древним очагом культуры, как Древний Египет, была Передняя Азия. Неолитическая культура, например, в г. Элам, проявлялась в том, что тонкостенные, правильной формы сосуды были покрыты четкими коричневато-черными мотивами геометризированной росписи по светлому желтоватому и розоватому фону. Комбинация узора, украшавшего кубок, повествовала о важнейших для человека того времени действиях и событиях – охоте, жатве, скотоводстве.
Древнейшая история развития искусства в Китае (5-3 тыс. лет до н.э.) включает в себя наиболее раннюю расписную керамику – Яншао, украшенные сложными геометрическими и зооморфными узорами, в которых отразился социальный опыт многих поколений. Их употребление не было строго утилитарным, так как, переходя в новые места, они становились средствами культурного общения, своеобразными сводами знаний. Изделиям каждого из яншаонских поселений были присущи свои излюбленные мотивы, заклинающие силы природы. В основном это были изображения животных, но с появлением наблюдений над стихиями, появились новые узоры, стремящиеся запечатлеть такие общие понятия, как гроза, гром, вода, ветер, луна и звезды.
Обыкновение оставлять надписи и рисунки существовало и на Руси. Первое упоминание о русских граффити в литературе относится к концу 18 в., хотя само это явление намного старше. Впервые граффити на Руси были обнаружены в Софийском соборе (11-15 вв.) в Новгороде, где многочисленные рисунки и надписи, покрывающие стены храмов, относят к древностям собора, а сами граффити их собирателями определяются как надписи, процарапанные несколько столетий назад на стенах Софии, которые свидетельствуют о грамотности и свободомыслии новгородцев.
Как отмечают археологи, писание на церковных стенах было настолько распространено, что запрет на это явление нашел отражение в юридических документах той эпохи. Церковный устав Владимира Святославича (12 век)
строжайше запрещал писать и рисовать на стенах и повелевал церковному суду наказывать тех, кто «крест посекают или на стенах режут» [9, с.24].
В истории акцент делается на изучении новых исторических фактов и выявлении их роли в организации общественной жизни. Выделяется особая область исторической науки – эпиграфика, изучающая надписи на различных предметах. Исследование надписей позволяет ученым получить информацию не только о самом их авторе, но и о причинах появления надписи, социальной среде и степени распространения грамотности.
В начале 6 в. у славян не было письменности, хотя писание и чтение в смысле использования мнемотехнических изобразительных приемов (резания, процарапывания) и восприятие элементарных знаков у них было. Состояние накануне появления письменности засвидетельствовано древнеболгарским книжником Черноризцем Храбром, который жил на рубеже 9-10 вв. и написал сочинение «О письменах».
В начале 10 столетия русские заключали письменные двусторонние договоры с греками. В результате интенсивных раскопок Нового Новгорода с 1951 г. были открыты сотни берестяных грамот 11-17 вв., в том числе изображения мальчика, который процарапывает костяным стержнем на бересте свои рисунки: себя и друга на одной лошади, двух воинов в шлемах, поверженных врагов.
Самыми многочисленными, сопоставимыми с числом берестяных грамот надписями являются граффити, прочерченные на стенах древних храмов, пещер, монастырей. Первые исследователи склонны были объяснять появление надписей на стенах «озорством, детскими шалостями и скукой церковного обряда». Осмыслить и понять это явление помогло исследование граффити Софийских соборов в Киеве и Новгороде, построенных в 11 в. Оказалось, что большинство граффити являются поминальными или молитвенными, связанными с христианской религией и богослужениями. К таким записям относятся традиционные молитвенные формы с указанием
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 имени и автографы – «писал имярек». В представлении жителей средневековой Руси такая надпись приравнивалась к молитве, записанной на церковной стене и от этого как бы постоянно действующей.
Другим большим пластом граффити являлись монументальные надписи – на мозаиках, фресках, межевых и сакральных камнях, каменных крестах, которые были с самого начала рассчитаны на всеобщее обозрение, сообщали официальные сведения, священные тексты как можно большему числу людей, были средством массовой коммуникации и выполняли молитвенную функцию.
Использование неинституциональных надписей и рисунков зафиксировано и в повседневном обиходе на предметах быта: ножах, ложках, сапожных колодках, кадушках, каменных литейных формочках, предметах прикладного искусства, на керамической таре. Обычно это были названия владельца, то есть обозначали принадлежность вещи, выполняя одновременно не только утилитарно-прагматическую, но и идентификационную функцию.
Другим направлением в это время стала систематизация отдельных граффити, которые, несомненно, отражают конкретно-историческую специфику своего времени. Среди граффити встречались как имена, так и магические формулы, признания в любви, посвящения и негативные политические оценки.
Таким образом, большинство исторических граффити представляют собой имена и автографы, магические формулы, молитвы, надписи непристойного и протестного содержания, символы, сообщения, признания в любви, стихи, посвящения, политические лозунги и оценки, портретные изображения и рисунки различных предметов.
Анализ ряда археологических и исторических исследований граффити позволил нам выделить их основные исторические функции:
идентификационную, религиозно-магическую, прагматическую, коммуникативную и протестную [11].
Второй период исследования граффити, по нашему мнению, можно обозначить как классификационно-гипотетический , так как на этом этапе высказывались различные попытки объяснить данное явление и как-то его систематизировать. Первые попытки научной систематизации и изучения граффити относятся к 18 веку. В 1731 г. англичанин Трумбо опубликовал онтологию надписей, собранных на зданиях и в общественных местах Лондона. Книга содержала высказывания о любви, браке, пьянстве, трезвости, скандалах, политике, играх, а также проповеди. Первое научное исследование этого явления было предпринято уже в 20 веке в 1935 г. американским лингвистом Ридом, который на основании надписей, собранных в общественных туалетах ряда штатов, проанализировал изменения в значении слов [11].
Граффити изучаются и активно развиваются во второй половине 20 в. Исследователи отметили два фактора, имеющие решающие значение для возникновения новых форм граффити на базе традиционных. Во-первых, появление краски в аэрозоли и, во-вторых, экспансия молодежной культуры в 1950-60-х гг. в США и Европе.
Главное различие между традиционными и субкультурными граффити - степень доступности их содержания для стороннего наблюдателя. Граффити субкультуры, доступные взгляду каждого, проходящего мимо, остаются для непосвященных загадкой, закрытым каналом коммуникации.
Появление таких эзотерических символов на стенах российских городов зафиксировал Д. Бушнелл, собиравший граффити в Москве и ряде других советстких городов в 1983 г. По его мнению, первыми знаками новой эры граффити были эмблемы московских футбольных клубов “Спартак” и “ЦСКА”, появившиеся на стенах Москвы в 1977-1978 гг., и несколько позже распространившиеся названия различных рок-групп, к 1988 г. ставшие лидирующим жанром субкультурных граффити. В начале 1980-х общественному вниманию становятся доступными также граффити русских пацифистов, панков, хиппи, фашистов и других группировок контр- культуры.
Распространение граффити в начале 1980-х связано с возникновением в советском обществе периода перестройки ряда новых молодежных группировок. На рубеже 1980-90-х гг. субкультурная молодежь: панки, рокеры, система, брейкеры, металлисты, фанаты и т.д. - становятся популярной темой прессы. Причина их появления, считает ученый - необходимость создания субкультурного средства коммуникации.
Художественные граффити [13] появились в США в 1960-х гг., когда подростки Нью-Йорка
стали писать на стенах домов свои имена, отмечая границы своего района.
Первоначально граффити-имена выполняли функцию пометки территории. Реформатором граффити традиционно считают подростка по имени Таки, который жил на 183-ей улице Манхэттена и работал посыльным. Во время работы Таки объезжал на метро все пять районов города и ставил свою именную метку “TAKI 183” везде. Производство граффити стало своего рода профессией и карьерой. Нью-йоркские граффитисты после росписи метрополитена заявили о себе как о новом направлении в современном искусстве и молодежной культуре. Движение проникло в другие города США и Европу. Распространение молодежного движения “хип-хоп” в начале 1980-х способствовало популяризации искусства граффити наряду с брейком и музыкой рэп.
Художественные граффити в России стали появляться в последние 1015 лет. В 1997 г. в Санкт-Петербурге было проведено легальное соревнование граффитистов, большинство из которых впервые взяли в руки спрей, а до этого делали лишь эскизы в альбомах. В 2002, 2005, 2009 гг. в Самаре прошли выставки, на которых не просто показывались
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 изобразительные граффити, но и все желающие могли попробовать себя в роли граффитистов, в результате чего появилось несколько художественных изображений граффити, являющихся результатом “командного” творчества.
Таким образом, граффити получают все большее распространение в обществе и частично легитимизируются.
В этот же период проводятся исследования отдельных аспектов граффити и высказываются объяснительные гипотезы. Социологические исследования показали, что авторы граффити в основной массе принадлежат к мужскому полу [16]. Возрастные рамки составляли 12–20 лет, но встречались авторы граффити и младше 12 лет, а некоторые продолжали свою деятельность и после 20. Большинство авторов граффити – выходцы из семей с низким социальным статусом и представители национальных меньшинств. Тем не менее, все исследователи отмечают, что среди них встречаются представители среднего и высшего классов. Как систематический вид поведения написание граффити характерно для мальчиков, а как случайный вид свойственен в одинаковой степени обоим полам.
Таким образом, обобщение данных эмпирических исследований влияния социально-демографических факторов на неинституциональную изобразительную деятельность показывает, что возрастные, гендерные, социально-статусные характеристики не являются определяющими факторами неинституциональной изобразительной деятельности.
В настоящее время исследователи испытывают затруднения при выделении специфики различных исследовательских парадигм к изучению граффити. Известным подходом к определению областей научного изучения граффити является точка зрения Д.М. Гэдсби, предлагающего следующую классификацию исследовательских подходов к граффити :
антропологический, гендерный, количественный, лингвистический, фольклористический, эстетический, мотивационный, превентивный и популярный.
Антропологический подход заключается в рассмотрении граффити как источника информации о том или ином сообществе или этнической группе.
В рамках гендерного подхода изучается отдельный жанр граффити - так называемые latrinalia - надписи в общественных туалетах, где анонимность и отсутствие наблюдателей создают благоприятные условия “выражению некоторых чувств, для чего неприемлемы практически все остальные средства массовой информации и коммуникативные ситуации [15]. Мужские граффити чаще сексуальны, тогда как в женских преобладает романтическая тематика.
Количественный метод контент-анализа часто применяют для выявления социальных и политических ориентаций, а также в гендерных исследованиях.
Лингвистические исследования направлены на выявление языковых форм и функций феномена граффити.
Фольклористический подход делает акцент, прежде всего, на описание материала.
С эстетической точки зрения рассматривается взаимоотношение граффити и профессионального искусства и решается проблема эстетического статуса граффити [18].
Мотивационный подход призван дать ответ на вопрос о том, почему люди пишут граффити. Специалисты выделяют следующие мотивы создания граффити: утверждение личностной и групповой идентичности, протест против социальных и культурных норм, агрессивные реакции, мотивы творчества, сексуальные мотивы, развлекательные мотивы [7].
В рамках превентивного подхода решается проблема борьбы с граффити, которые рассматриваются как порча общественного имущества [12].
Популярные издания граффити не относятся к научной литературе, но ориентированы на развлечение читателя и содержат, как правило, юмористические и скабрезные граффити.
По нашему мнению, данная классификация, популярная в исследовательских работах, посвященных изучению граффити, не может рассматриваться как прогностичная и эмпирически валидная.
Во-первых, в данном случае нарушено главное требование к классификации, так как здесь отсутствуют единые основания ее составления, в то время как любая классификация, как известно, представляет собой логическое деление понятия и должна включать все возможные группы проявления выделенного дифференцирующего признака. Во-вторых, предложенные подходы не отражают методологическую ориентацию исследователей. На наш взгляд, содержательное научное исследование граффити должно быть основано на создании классификаций, отражающих специфику ментальности этого явления, что предполагает учет семиотической формы граффити, в которой в едином плане слиты знаковосимволическая форма, реализуемые культурные смыслы (функции граффити) и мотивационно-поведенческий план.
При объяснении этого явления в отечественной и зарубежной литературе популярным остаётся психоанализ и биологические подходы. Так, зачастую граффити рассматриваются как аналог архаических, филогенетически ранних поведенческих реакций, свойственных животным (например, пометка территории) [6].
Также акт написания граффити приравнивают к агрессивному поведению [14].
Наиболее популярной среди западных исследователей объяснительной концепцией к анализу феномена граффити является психоанализ или психоаналитическая теория. С позиций психоанализа граффити, как и другие продукты художественной деятельности людей, рассматриваются как выражение неосознаваемых психических процессов, представляющих собой продукт подавленных бессознательных влечений личности.
Многие граффити содержат оскорбления и непристойности в виде рисунков и грубых слов, что является социальным табу. Поэтому можно рассматривать надписи и рисунки как средство символического удовлетворения базовых импульсов сексуальности и агрессивности, свободное выражение которых не позволяется обществом.
Ряд ученых подчеркивает социальную детерминацию феномена граффити, однако при этом отсутствует локализация социальных детерминант, а высказанные предположения чаще всего носят общий характер. Граффити рассматриваются как отражение социальных проблем, общественных отношений и ценностей, а также личностных качеств [17].
Таким образом, долгое время граффити рассматривались как выражение индивидуальных психологических особенностей, как феномен, детерминированный определенными структурными компонентами психики.
Современный период исследования граффити, по нашему мнению, может быть обозначен как концептуально-эвристический . Граффити становится объектом систематического исследования в наших работах на протяжении 2000 - 2011 гг. [1,2,3,4], развивается социально-дискурсивный подход к граффити и проведены комплексные исследования личностных особенностей и ментальности социальной группы авторов граффити. Автор разрабатывает социально-психологическую концепцию граффити: социальнодискурсивный подход и рассматривает граффитологическую среду как особую психосемиотическую систему, которая, с одной стороны, является результатом давления информационной среды на психику человека, а, с другой, – его способом идентификации и квазикоммуникации в синкретической образно-знаковой среде.
Социально-психологическая специфика граффити состоит в том, что неинституциональные надписи и рисунки представляют собой выражение интенциональности сознания авторов граффити к утверждению коммуникации и свободы, являющихся способами конструирования содержания жизни. Конкретные формы граффити обусловлены спецификой ментальности специфической социальной группы авторов граффити, находящей выражение в особенностях кодификации смысла, характерных для знаковой системы граффити в целом.
Психосемиотическая система граффити представляет собой особую знаковую систему, являющуюся полисистемным явлением: пространством коммуникации и интеракции между авторами граффити; средой, в которой граффити создаются и фиксируются в письменной образно-знаковой форме – то есть процессом реализации деятельности; особой реальностью, в знаковых формах которой зафиксированы ценности и нормы специфической социальной группы – авторов граффити.
В результате многочисленных исследований авторов граффити (объём выборки – n = 2054 респондентов) и продуктов их изобразительной деятельности (n=24 659) были определены особенности авторов граффити как представителей специфической социальной группы.
Спецификой психологического портрета автора граффити является наличие в структуре личности двух важнейших мотивационных тенденций:
во-первых, стремление ослабить давление информационной среды на психику и достичь интегрированности с ней через конструирование символической идентичности, которое в граффити реализуется через создание информационной подписи и ее нанесение на разнообразные области социального пространства; во-вторых, противоречивость личностных характеристик, в частности, стратегий конфликтного взаимодействия и межличностных отношений, проявляется в бессознательной мотивации – стремлении авторов граффити к утверждению индивидуальной свободы, выражение которой в неинституциональном изобразительном творчестве имеет квазикоммуникативный характер, при этом утверждение индивидуальной свободы позиционируется по отношению к социуму в целом.
В результате многочисленных исследований авторов граффити и их продукции выявлено, что проблематика граффити не является проблемой социальной неадаптивности. При этом основными психологическими особенностями авторов граффити являются: стремление к конуструированию идентичности, которая проявляется в том, что граффити представляют собой эффективный способ конструирования символической идентичности; противоречивость личностных характеристик обуславливает выражение стремления к свободе не в процессе непосредственной коммуникации, а в изобразительном творчестве авторов граффити.
Таким образом, историко-психологическая динамика этого явления представляет собой процесс перехода от первичных классификационных схем и гипотез индивидуальных психологических детерминант граффити к более широкому культурно-историческому, социальному осмыслению характера этого явления, которое в настоящее в время приобретает в информационном обществе массовый характер.
Граффити представляют собой особую социальную среду, в которой авторы граффити реализуют процессы квазикоммуникации, являющиеся выражением интенциональности их сознания к утверждению коммуникации и свободы, и которые обусловлены особенностями ментальности данной социальной группы.
Список литературы Исследование граффити в психологии и интенциональность сознания авторов граффити
- Белкин А.И. Граффити как современная форма народной карнавальной культуры//Психология искусства: образование и культура. Самара: СГПУ, МИР, 2000. -С. 119-124
- Белкин А.И. Герменевтическое понимание в коммуникации авторов граффити//Сибирский Педагогический Журнал. 2008, 15: 361-369
- Белкин А.И. Настенные надписи Самары. Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2008
- Белкин А.И. Социально-дискурсивный подход к граффити//Вестник развития науки и образования, 5: 69-74, 2009
- Окладников А.П. Раскопки на Севере//По следам древних культур. М.: Госкультурпросветиздат, 1951. -C. 11-46
- Седнев В. Надписи и рисунки в общественном транспорте (попытка классификации)//Философская и социологическая мысль. 1993, 1: 170-173
- Скороходова А.С. Граффити: значение, мотивы, восприятие//Психологический журнал. 1998, 1: 144-164
- Торссон Э. Северная магия: мистерии германских народов. К.: София, 1997
- Церковный устав Владимира. Вторая редакция. Памятники русского права. Т.1. -М.,1952.
- Эльдемуров Ф.П., Рубцов П.П. Тайнопись букв и иероглифов. М.: Вече, 2005
- Abel E.L., Buckley B.E. The Handwriting on the Wall: Toward a Sociology and Psychology of Graffiti. -Westport: Greenwood Press, 1977
- Brewer D. Hip Hop graffiti Writers Evaluations of Strategies to Control Legal Graffiti. Human Organization. 1992, 51: 2-7.
- Chalfant H., Cooper M. Subway Art. -New York, 1995
- Freeman R. Graffiti. -L.: Hutchinson and Co, 1966
- Gonos G., Mulkern V., Poushinsky N. Anonymous Expression: A Structural View of Graffiti. Journal of American Folklore. 1976, 89: 40-48.
- Kokoreff. M. Tags et zoulous: Une nouvelle violence urbaine. Esprit. 1991, 2: 23-36
- Opler M.K. Graffiti Represent Thwarted Human Interests//Sexual Behavior. 1971, 2: 45-51.
- Varnedoe K., Gopnik A. High&Low: Modern Art and Popular Culture. New York, 1991