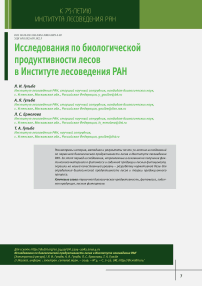Исследования по биологической продуктивности лесов в Институте лесоведения РАН
Автор: Гульбе Я.И., Гульбе А.Я., Ермолова Л.С., Гульбе Т.А.
Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information
Рубрика: К 75-летию института лесоведения ран
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены история, методика и результаты почти 70-летних исследований по первичной биологической продуктивности лесов в Институте лесоведения РАН. За этот период исследования, направленные в основном на получение фактического материала о фитомассе и годичной продукции лесных фитоценозов, перешли на новый качественный уровень - разработку нормативной базы для определения биологической продуктивности лесов и теории продукционного процесса.
Первичная биологическая продуктивность, фитомасса, годичная продукция, лесные фитоценозы
Короткий адрес: https://sciup.org/143169951
IDR: 143169951 | УДК: 630.182:630.182.5 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.4.01
Текст научной статьи Исследования по биологической продуктивности лесов в Институте лесоведения РАН
Для ссылок: –3083.2019.4.01
Исследования по биологической продуктивности лесов в Институте лесоведения РАН
[Электронный ресурс] / Я. И. Гульбе, А. Я. Гульбе, Л. С. Ермолова, Т. А. Гульбе
// Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 4. – С. 7–22. URL:
О дно из направлений науки о лесе – изучение первичной биологической продуктивности лесов – сформировалось сравнительно недавно. Анализ элементов биологической продуктивности древостоев в нашей стране начал проводиться в 1930–1950-х гг. в рамках некоторых лесоводственных исследований и носил вспомогательный характер. В Институте леса АН СССР исследования по определению запасов фитомассы в лесах осуществлялись под руководством акад. В. Н. Сукачева в конце 1940-х – начале 1950-х гг. В начале 1960-х гг. вышла серия статей А. А. Молчанова и В. В. Смирнова по определению органической массы насаждений различных древесных пород и ее сезонной динамике в разных природных зонах европейской части СССР. Мощное стимулирующее воздействие на развитие этого направления исследований лесов в конце 1960-х – начале 1970-х гг. оказало участие нашей страны в Международной биологической программе (МБП), когда во многих странах одновременно проводилось определение биологической продуктивности растительных сообществ. С подключением Института лесоведения РАН к выполнению МБП изучение биологической продуктивности лесов страны заметно активизировалось и стало рассматриваться как важнейшая часть комплексных биогеоценотиче-ских исследований, проводимых институтом [1], что позволило ему занять одну из ведущих позиций в исследованиях по этому направлению. В ходе выполнения МБП [2] были сформулированы задачи, стоящие перед лесной наукой, разработана и апробирована методика исследований [3, 4]. Основные результаты изучения биологической продуктивности лесов в рамках МБП опубликованы в ряде работ [5–14], в том числе в обзорных работах по ее итогам в СССР и за рубежом [15–18].
Учитывая важность исследований по биологической продуктивности лесов, в 1974 г. на базе группы лесоводства (руководитель В. В. Смирнов), которая работала в рамках МБП, был создан отдел биологической продуктивности, возглавляемый А. И. Уткиным, задачей которого стало изучение фитомассы лесов и ее динамики для решения целого ряда вопросов лесоведения и лесоводства. Вопросами биологической продуктивности заболоченных лесов и лесоболотных экосистем занимался коллектив сотрудников под руководством акад. С. Э. Вомперского, математического моделирования продукционного процесса – под руководством И. В. Кармановой и В. Ф. Лебкова. Результаты этих исследований заслуживают отдельного рассмотрения и нами не затрагиваются.
На начальном этапе исследований основное внимание уделялось совершенствованию методики определения биологической продуктивности лесов и накоплению фактического материала о параметрах продукционного процесса в лесных фитоценозах. Анализ применяемых в то время методов определения биологической продуктивности позволил разработать методику, которая обеспечивала получение достаточно точной и разнообразной информации о фитомассе лесов, ее динамике и структуре [24]. Базовые элементы разработанной методики учета фитомассы и годичной продукции оставались неизменными на всем протяжении исследований. Запас, прирост по объему, надземную фитомассу и годичную продукцию древостоев определяли по модельным деревьям, которые подбирали в соответствии с распределением особей по ступеням толщины или классам высоты (методом пропорционально-ступенчатого представительства). Модельные деревья для определения запаса, прироста, фитомассы и годичной продукции брали до наступления листопада, но когда их рост уже завершился. При обработке модельных деревьев в кроне выделяли следующие фракции: ветви (сегменты скелетных осей крон 2 лет и старше), побеги текущего года (включая вершинный побег), листья, генеративные органы и отмершие ветви. Ствол разделяли на секции (0,5–1,0 м), которые взвешивали индивидуально. Из сегментов ствола выпиливали диски для анализа хода роста по диаметру и брали образцы для определения соотношения древесины и коры. Образцы фракций кроны и ствола для определения доли абсолютно сухого вещества высушивали до постоянного веса при температуре 105 °С. Годичную продукцию древесины и коры стволов устанавливали по доле прироста по объему, годичную продукцию ветвей рассчитывали по слоям делением массы ветвей в слое на средний возраст ствола в этом слое.
Данные об объеме, массе и годичной продукции модельных деревьев в абсолютно сухом состоянии по фракциям (или их группам) обрабатывали методами регрессионного анализа. Предпочтение при выравнивании отдано аллометрической функции (y=ax b ), в качестве аргумента приняли d 2 h, где: d - диаметр дерева, h - его высота [12]. Используемый некоторыми исследователями метод среднего дерева был отклонен, как недостаточно точный [19]. Величина годичной продукции фракций фитомассы и насаждения в целом (P), полученная по данной методике, несущественно отличается от их нетто-продуктивности, или чистой первичной продукции (NPP), т.е. P—NPP.
Выравненные значения фитомассы и годичной продукции деревьев по ступеням диаметра умножали на число деревьев этой ступени на пробной площади. Полученные значения надземной фитомассы и годичной продукции древостоя на пробной площади пересчитывали на единицу площади (1 га).
В дополнение к выполненным в ходе МБП исследованиям естественных, зачастую слабона-рушенных, лесов была выявлена специфика возрастной динамики фитомассы и годичной продукции культур сосны в разных физико-географических условиях: в интразональных ландшафтах подзоны широколиственно-еловых лесов (Владимирская обл.), подзоны широколиственных лесов зоны смешанных лесов (Ульяновская обл.), в подзоне северной лесостепи (Куйбышевская обл., ныне Самарская) [12]. В результате этих исследований установлена высокая продуктивность искусственных сосняков Окско-Клязьминского плато (Владимирская обл.), где высоким темпам продуцирования сосняками органического вещества благоприятствует, по-видимому, оптимальное соотношение тепла и влаги. По величине годичной продукции эти культуры превосходят культуры сосны из Ульяновской и Куйбышевской областей, где намного чаще повторяются атмосферные и почвенные засухи.
С 1975 г. исследования продукционного процесса проводили в производных мелколиственных и, в значительно меньшей степени, искусственных хвойных насаждениях южно-таежной подзоны на базе Северной ЛОС ИЛАН РАН (Ярославская обл.). Изученные возрастные ряды березняков, осинников и сероольшани-ков неморально-кисличной группы типов леса характеризуют наиболее высокопроизводительные условия произрастания, что позволило определить максимальную продуктивность этих пород в районе исследований. Установлено, что в этих лесорастительных условиях все три древесные породы проявляют значительное сходство в возрастной динамике дендрометрических и биопродукционных показателей [12, 19, 20]. К 50-летнему возрасту надземная фитомасса древостоев осины, березы и ольхи серой достигает 150–180 т/га, в том числе стволов 130–160 т/ га [20]. Надземная годичная продукция древостоев всех трех пород в возрастном интервале 15(20)–50(55) лет составляет 10–12 т/га/год. На этом основании было сформулировано понятие продукционной инвариантности фитоценозов – способности растительных сообществ (как систем) или их ярусов, популяций растений (подсистем) к достижению и поддержанию в течение длительного времени (инвариантного периода) одинакового уровня биологической продуктивности [19–21]. В этот период относительно стабильна и фракционная структура годичной продукции надземной части древостоев осинников и березняков: стволы составляют примерно 55%, скелет крон – 16%, листья – 29%. В серо-ольшаниках соотношение прироста стволов и скелета крон с возрастом меняется, вследствие чего инвариантным оказывается соотношение продукции древесных фракций и продукции листьев (74 и 26%).
Понятие продукционной инвариантности, по всей вероятности, может быть распространено и на хвойные породы, поскольку установлено, что в сходных лесорастительных условиях биопродуктивность надземной части искусственного насаждения сосны и естественного березняка очень близки [22].
Наиболее полная оценка продуктивности фитоценоза и его динамики возможна при детальном изучении всех его компонентов. В частности, отсутствие оценки биологической продуктивности травяно-кустарничкового яруса лесных фитоценозов в научном отношении является большим недостатком, особенно при определении годичной продукции фитоценозов [16]. Нами осуществлена оценка массы травяно-кустарничкового яруса в естественных возрастных рядах березняков, осинников и ольшаников [19]. На основе изменений структуры фитомассы с учетом эколого-ценотических групп видов травяного покрова прослежена смена экологической обстановки под пологом растущего древостоя и подроста [23–25].
С 1978 г. определение массы и годичной продукции фракций сочетается с получением данных об их распределении по вертикали. Изначально методика этих исследований была составлена А. И. Уткиным совместно с Н. В. Дылисом [26]. В дополнение к ней были разработаны два метода для перехода от данных вертикального распределения массы и годичной продукции модельных деревьев на уровень древостоя: изоплет и аналитический (или кумуляты) [19].
В ходе исследований проанализировано вертикальное распределение массы и годичной продукции фракций надземных частей деревьев и древостоев осины, березы, ольхи серой разного возраста [19]. Выявлены закономерности строения полога древостоев и рассмотрены возможности математического описания вертикального распределения массы фракций крон. Для аппроксимации вертикального распределения массы фракций крон деревьев и древостоев мягколиственных пород апробировано 8 функций распределения, которые применялись для тех же целей другими авторами. Установлено, что эмпирическим данным в наибольшей степени соответствует функция Вейбулла, рассмотрено изменение параметров этой функции и проведена их оценка [19].
Распределение по относительным слоям высоты (0,1Hmax) массы стволов в сероольшаниках и осинниках в возрасте 20 лет и старше однотипно (23,1; 18,3; 15,2; 13,0; 10,8; 8,5; 6,0; 3,4; 1,4; 0,2% и 23,4; 19,5; 16,7; 13,6; 11,1; 7,9; 5,0; 2,1; 0,6; 0,1% соответственно) и почти совпадает с распределением объема [27] и массы [28] отдельных стволов деревьев. Можно предположить, что распределение по относительным слоям высоты объемов отдельных деревьев и массы стволов основного яруса древостоев определяется единым комплексом факторов.
Исследование вертикально-фракционного распределения фитомассы и годичной продукции древостоев, наряду с получением исходной информации для анализа и моделирования продукционного процесса древостоев, направлено на выделение биогеогоризонтов (БГГ) как элементов вертикальной структуры биогеоценозов в понимании Ю. П. Бялловича [29]. Первый опыт их выделения осуществлен А. И. Уткиным и Н. В. Дылисом [30]. Проведенные нами исследования показали высокую вариабельность распределения фитомассы и годичной продукции по вертикальному профилю, в результате чего разграничение полога на горизонты вызывает определенные трудности. Предложено несколько вариантов выделения БГГ в сероольшаниках, осинниках и березняках [20], для выбора оптимального из них необходимы дальнейшие исследования, в том числе в насаждениях хвойных пород.
В 1970–1980-х гг. была определена биологическая продуктивность и охарактеризовано вертикальное распределение фитомассы и годичной продукции на нескольких участках культур ели и сосны, экологического ряда естественных средневозрастных древостоев сосны в трех типах условий произрастания [12, 19, 20].
С 1990-х гг. акцент в исследованиях биологической продуктивности сместился в сторону обобщения и анализа имеющихся фактических материалов и создания нормативной базы для определения фитомассы и ее динамики в виде соотношений и регрессионных моделей, которые позволяют определять массу растущих деревьев по дендрометрическим показателям и фитомассу древостоев по их таксационным характеристикам.
Чтобы исключить в дальнейшем операции взвешивания при определении массы фракций крон модельных деревьев для березы повислой, ольхи серой и осины, проанализированы и описаны степенными уравнениями связи между массой листьев и массой ветвей (вместе с годичными побегами), с одной стороны, и сечением ствола под кроной и суммой сечения ветвей I порядка – с другой; проведена оценка точности определения массы крон деревьев трех мелколиственных пород на основе дендрометрическо-продукционных зависимостей [31, 32].
В 1990-х гг., в связи с необходимостью оценки содержания углерода в лесах на территории нашей страны и их роли в глобальном цикле углерода, актуальной стала инвентаризация фитомассы лесов. Для решения этой задачи были созданы и постоянно пополняются базы данных «Биологическая продуктивность лесных экосистем» и «Дендрометрия и масса фракций модельных деревьев основных лесообразующих пород России», в которые, помимо материалов собственных исследований, вошли данные о биопродуктивности лесов России.
Для определения фитомассы растущих деревьев построены регрессионные модели взаимосвязи массы фракций деревьев с таксационными показателями. Одна из первых попыток в этом направлении была предпринята А. И. Уткиным и В. И. Алексеевым [12]. Совместно с ЦЭПЛ РАН по материалам созданной нами базы данных были получены аллометрические уравнения для фитомассы деревьев сосны, ели, березы и осины, а также тонкомера и кустарников в европейской части России [33], фитомассы и продукции деревьев лиственницы в высокопродуктивных молодняках [34]. Разработаны методы расчета фитомассы лесов: по таксационным показателям древостоев (метод поучастковой аллометрии) [35] и конверсионно-объемный [36]. Проведено сравнение аллометрического и конверсионно-объемного методов [37]. Применительно к информации государственного учета лесного фонда (ГУЛФ)
разработаны методики и нормативная база оценки пулов и потоков углерода на территории земель лесного фонда Российской Федерации. Рассчитаны коэффициенты конверсии запасов древесины в фитомассу (углерод) лесных насаждений [38], включая экосистемы кедрового стланика [39–41]; определены пулы углерода фитомассы насаждений основных лесообразующих пород и среднестатистические величины запасов биологического углерода в 1-метровой почвенной толще для всех категорий земель лесного фонда, включая лесопокрытые земли [42]; разработаны нормативные показатели запасов крупных древесных остатков (древесного дебриса), созданы модели годичного увеличения запасов дебриса и его годичного разложения [43]; оценены пулы и потоки углерода на территории земель лесного фонда России и некоторых федеральных округов и субъектов Российской Федерации [44]. Разработаны подходы к оценке NPP лесов России; получены уравнения регрессии, описывающие зависимость NPP от фитомассы с учётом возраста древостоев на уровне фитоценозов [45, 46].
На примере древостоев сосны установлено, что удельная продуктивность фитомассы древостоев (SP), представляющая отношение годичной продукции древостоя к его фитомассе (Ph) ( SP=NPP/Ph, кг/кг, т/т), как и удельная продуктивность запаса [47], не зависит от почвенно-климатических условий (класса бонитета). Построены регрессионные модели возрастной динамики SP древостоев сосны, ели, дуба, березы, осины и ольхи серой, которые могут использоваться для расчета NPP [48].
По фактическим данным составлена таблица хода роста и построена эмпирико-статистическая модель динамики первичной биологической продуктивности сомкнутых древостоев ольхи серой неморально-кисличной группы типов леса в возрасте 5–50 лет [49]. В этот период древостои ольхи характеризуются высокой общей производительностью (603 м3/га), доля стволового запаса растущих деревьев составляет 55% и отпада – 45%. В 50 лет сероольшаники по общей производительности на 25% превосходят сомкнутые березняки Iа класса бонитета, но по запасу стволовой древесины (330 м3/га) уступают березнякам (примерно на 10%). Возраст количественной спелости древостоев ольхи, когда они имеют наиболее высокую общую производительность, равен 30–35 годам, а возраст количественной спелости древостоев ольхи серой без учета отпада – 15–20 годам. Запас древостоев в 30–35-летнем возрасте составляет 260–280 м3/ га, в 15–20-летнем – 140–180 м3/га. В 50-летнем возрасте древостои ольхи еще не достигают возраста естественной спелости, текущее среднепериодическое изменение стволового запаса имеет положительное значение (2 м3/га/год).
Общая продуктивность древостоев ольхи за 45-летний период (5–50 лет) составляет 444 т/ га абсолютно сухого вещества, в ней преобладает (64%) масса фитодетрита. В 50-летнем возрасте надземная фитомасса древостоев ольхи составляет 162,1 т/га, в том числе стволов – 139,8 т/га.
Начальный этап в ходе роста и развития древостоев ольхи серой характеризуется интенсивным изреживанием и ускоренным ростом молодых древостоев, происходит интенсивное накопление фитомассы и увеличение массы фитодетрита, быстрое изменение фракционного состава фитомассы. С 15–20-летнего возраста древостои ольхи вступают в стадию относительной стабилизации роста, когда продукционный процесс устойчив как по направленности, так и по интенсивности (инвариантный период). Величина годичной продукции изменяется незначительно. Относительно стабильно и представительство в ней древесных фракций и листьев (70–74% и 22–25% соответственно). Мало изменяется также фракционная структура фитомассы. В то же время происходит постепенное увеличение прироста фитодетрита древесных фракций, в результате которого их нетто-продукция и нет-то-продукция надземной части древостоя в целом уменьшаются.
Возраст количественной спелости древостоев ольхи серой по массе стволов (с учётом отпада) наступает несколько позже, чем по запасу, и равен примерно 40 годам. Возраст количественной спелости по массе стволов (без учёта отпада) равен примерно 20 годам, что соответствует верхнему значению интервала возраста количественной спелости по объёму. Полученные результаты являются важным элементом нормативной базы для инвентаризации сероольшаников в продукционном отношении и планирования в них лесохозяйственных мероприятий.
Познание в полном объеме биопродукцион-ного процесса в лесных биогеоценозах во времени является наиболее трудной задачей лесной био-геоценологии и возможно лишь при организации непрерывных долговременных исследований на одних и тех же объектах [50]. На базе Северной ЛОС (Ярославская обл.) организованы мониторинговые наблюдения за ходом продуцирования органического вещества в лесных фитоценозах на сети постоянных пробных площадей. Эти работы включают ежегодные таксационные работы с учетом отпада и периодические определения продукционных показателей.
Долговременный (с 1970 г.) мониторинг за ходом продукционного процесса в высокопроизводительном естественном березняке позволил проследить изменение его основных параметров. Так, с 39 до 55 лет количество депонированного в надземной части березового древостоя органического вещества увеличилось с 162,4 до 16,34 т/ га, а масса стволов – с 144,5 до 196,44 т/га. Масса скелета крон в возрастном интервале 39–45 лет оставалась неизменной, к 55-летнему возрасту она увеличилась на 2,31 т/га. Масса (годичная продукция) листьев в течение всего периода наблюдений оставалась практически на одном уровне и составляла 3,21–3,56 т/га.
Установлено, что величина надземной годичной продукции по результатам учета в возрасте древостоя 45 и 55 лет (11–12 т/га/год) и вклад основных фракций в годичную продукцию надземной части древостоя мало изменились в течение всего периода наблюдений и близки значениям, установленным ранее для березняков в период инвариантности. Получило подтверждение высказанное ранее предположение [19] о возможной продукционной инвариантности древостоя в процессе онтоценогенеза [51].
Разница в величине годичной продукции стволов древостоя, полученная в режиме реального времени и ретроспективным методом [52], не выходит за рамки точности метода определения фитомассы и годичной продукции [10], что подтверждает равноценность обоих методов. С увеличением возраста с 39 до 55 лет затраты годичной продукции стволов на компенсацию отпада возросли и в абсолютных единицах, и в относительных: если в возрастном интервале с 40 до 45 лет они составили 21% годичной продукции стволов, то в дальнейшем повысились до 51%. Распределение годичной продукции скелета крон на увеличение массы фракции, компенсацию потерь с отпадом и с опадом в процентном соотношении изменилось от 0:4:96 в 40–45 лет до 14:10:76 в 46–55 лет и за весь период наблюдений (40–55 лет) в среднем составило 8:8:84. Таким образом, при инвариантности березового древостоя по величине и фракционной структуре годичной продукции на протяжении всего периода исследований в нем произошли кардинальные изменения в процессах депонирования и стока органического вещества: интенсивность накопления фитомассы в надземной части древостоя после достижения 45-летнего возраста резко снизилась.
Социально-экономический кризис, поразивший сельское хозяйство на рубеже XX–XXI вв., привел к резкому сокращению производства и зарастанию древесно-кустарниковой растительностью неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в подзоне южной тайги европейской части России. С конца 1990-х гг. в режиме мониторинга на постоянных пробных площадях проводят исследования [53–57], которые позволили выявить основные тенденции роста и развития лесных насаждений на начальной стадии их формирования на этих землях. Приоритет в заселении залежей в основном принадлежит березе и ольхе серой, которые в этих условиях на более богатом агрохимическом фоне почв образуют высокопродуктивные насаждения. Молодняки этих пород уже к 7–10-летнему возрасту накапливают 34–54 т/га органического вещества с долей массы стволов в фитомассе древостоев 80%, ассимилирующих органов – 7–10%. Максимальных для условий южной тайги значений надземной годичной продукции (10–12 т/га/ год) семенные березняки и сероольшаники достигают в возрасте 8–9 лет. С этого же возраста стабилизируется распределение надземной годичной продукции по фракциям. Результаты мониторинга продукционного процесса на постоянных пробных площадях опубликованы в работах [58, 59]. Для молодняков березы установлено, что, несмотря на интенсивное естественное изреживание древостоев на стадии молодняка, годичная продукция их надземной части превышает суммарную массу опада и отпада, обеспечивая ускоренное накопление фитоценозом органического вещества. В 4-летнем возрасте суммарная масса отпада и опада составляет 47% годичной продукции, в 5-летнем – 33%. На компенсацию отпада и опада расходуется около 15% продукции древесных фракций, при этом у фракции стволов эта величина возрастает с 5 до 16%, а у скелета крон уменьшается с 75 до 10%. В возрастном периоде 8–10 лет суммарная масса отпада и опада равна 53% годичной продукции. На компенсацию отпада и опада расходуется около 42,2% продукции древесных фракций, при этом у фракции стволов эта величина составляет 34,3%, а у скелета крон – 72,5% [58]. Высокие темпы накопления органического вещества в молодняках мягколиственных пород позволяют считать их высокопродуктивными функциональными ценозами. Выявленные в результате исследований закономерности формирования молодняков могут использоваться в качестве основы для решения ряда задач: прогноза лесообразовательного процесса на залежи; определения роли молодняков в углеродном цикле лесных экосистем; обоснования системы лесохозяйственных мероприятий, направленной на выращивание высокопродуктивных древостоев с учетом целевого назначения лесов и региональных социально-экономических условий.
За годы исследований в Институте лесоведения РАН накоплен и проанализирован обширный материал по биологической продуктивности лесов европейской части России в зональном аспекте. Полученные на единой методической основе данные уже были задействованы при разработке теории продукционного процесса, для описания углеродного цикла в лесах и его динамики в условиях глобального потепления. Созданная нормативная база обеспечивает предпосылки по внедрению определения фитомассы и ее динамики в лесоводственные исследования, практику лесоинвентаризационных и лесохозяйственных работ. Происходящие климатические изменения, увеличение антропогенного влияния, экологизация лесопользования, поиск альтернативных возобновляемых источников энергии свидетельствуют о том, что исследования по биологической продуктивности лесов сохраняют свою актуальность, и их результаты будут востребованы в дальнейшем при решении экологических и хозяйственных задач.
Список литературы Исследования по биологической продуктивности лесов в Институте лесоведения РАН
- Программа и методика биогеоценологических исследований. - М.: Наука, 1966. - 334 с.
- Уткин, А. И. Лесная наука и исследования по Международной биологической программе / А. И. Уткин // Растительные ресурсы. - 1967. - Т. 3. - № 4. - С. 490-504.
- Молчанов, А. А. Методика изучения прироста древесных растений / А. А. Молчанов, В. В. Смирнов. - М.: Наука, 1967. - 100 с.
- Смирнов, В. В. Учет динамики растительной органической массы в лесных сообществах / В. В. Смирнов // Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах. - М.: Мысль, 1978. - С. 21-61.
- Молчанов, А. А. Продуктивность органической массы в лесах различных зон / А. А. Молчанов. - М.: Наука, 1971. - 276 с.
- Смирнов, В. В. Органическая масса в некоторых лесных фитоценозах европейской части СССР / В. В. Смирнов. - М.: Наука, 1971. - 362 с.
- Ватковский, О. С. Анализ формирования первичной продуктивности лесов / О. С. Ватковский. - М.: Наука, 1976. - 116 с.
- Каменецкая, И. В. Продуктивность растительного покрова в некоторых типах молодых одновозрастных сосняков южной тайги / И. В. Каменецкая, К. В. Зворыкина, Т. В. Малышева // Продуктивность и структура растительности молодых сосняков. - М., 1973. - С. 5-63.
- Вакуров, А. Д. Производительность ельников на европейском севере / А. Д. Вакуров // Продуктивность органической и биологической массы леса. - М.: Наука, 1974. - С. 7-10.
- Вакуров, А. Д. Определение общей фитомассы в сосняках чернично-зеленомошных / А. Д. Вакуров // Продуктивность органической и биологической массы леса. - М.: Наука, 1974. - С. 11-15.
- Ильюшенко, А. Ф. Сезонное развитие листовой поверхности и биологическая продуктивность в березняках / А. Ф. Ильюшенко // Лесоведение. - 1968. - № 2. - С. 3-13.
- Биологическая продуктивность лесов Поволжья. - М.: Наука, 1982. - 284 с.
- Молчанов, А. Г. Сравнение фитомассы березняка и сосняка в одинаковых лесорастительных условиях / А. Г. Молчанов // Лесоводственные исследования в подзоне южной тайги. - М.: Наука, 1977. - С. 51-60.
- Боханова, Н. С. Надземная фитомасса пойменных дубрав / Н. С. Боханова // Лесоведение. - 1971. - № 2. - С. 71-75.
- Уткин, А. И. Основные направления в исследованиях по биологической продуктивности лесных фитоценозов за рубежом / А. И. Уткин // Лесоведение. - 1969. - № 1. - С. 63-83.
- Уткин, А. И. Исследования по первичной биологической продуктивности лесов в СССР / А. И. Уткин // Лесоведение. - 1970. - № 3. - С. 58-89.
- Уткин, А. И. Биологическая продуктивность лесов (методы изучения и результаты) / А. И. Уткин // Лесоведение и лесоводство: итоги науки и техники. - Т. 1. - М.: ВИНИТИ, 1975. - С. 9-189.
- Продуктивность лесов европейской части СССР / Г. Б. Гортинский, А. А. Молчанов, М. А. Абражко [и др.] // Ресурсы биосферы: Итоги советских исследований по МБП. - Вып. I. - Л.: Наука, 1975. - С. 34-42.
- Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах. - М.: Наука, 1986. - 261 с.
- Анализ продукционной структуры древостоев. - М.: Наука, 1988. - 240 с.
- Продукционная инвариантность древостоев / А. И. Уткин, С. Г. Рождественский, Я. И. Гульбе, Н. Ф. Каплина // Лесоведение. - 1988. - № 2. - С. 12-23.
- Уткин, А. И. Биологическая продуктивность 40-летних высокопродуктивных древостоев / А. И. Уткин, Н. Ф. Каплина, А. Г. Молчанов // Лесоведение. - 1984. - № 3. - С. 28-36.
- Ермолова, Л. С. Масса видов травяного покрова в березняке / Л. С. Ермолова, Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сб. тр. по матер. междунар. заочной науч.-практ. конф. ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. - С. 116-119.
- Ермолова, Л. С. Возрастные изменения травяного покрова в березняке по залежи / Л. С. Ермолова // Природа, наука, туризм: сб. матер. всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию НП "Башкирия". - Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. - С. 154-160.
- Динамика продуктивности древостоя и травяного покрова молодняков осины / Л. С. Ермолова, Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе, А. Я. Гульбе // Бореальные леса: состояние, динамика, экосистемные услуги: тез. докл. Всеросс. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 60-летию Института леса КарНЦ РАН. - Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2017. - С. 104-106.
- Уткин, А. И. Изучение вертикального распределения фитомассы в лесных биогеоценозах / А. И. Уткин, Н. В. Дылис // Бюл. МОИП. Сер. биол. - 1966. - Т. 71. - № 6. - С. 79-91.
- Захаров, В. К. Лесная таксация / В. К. Захаров. - М.: Лесн. пром-сть, 1967. - 408 с.
- Аткин, А. С. Особенности вертикального строения стволовой массы деревьев в сосняках / А. С. Аткин, Л. И. Аткина // Лесная таксация и лесоустройство. - Красноярск, 2000. - С. 21-26.
- Бяллович, Ю. П. Биогеоценотические горизонты / Ю. П. Бяллович // Тр. МОИП. - 1960. - Т. 3. - С. 43-60.
- Вертикально-фракционное распределение фитомассы и принципы выделения биогеогоризонтов в лесных биогеоценозах / А. И. Уткин, Л. Г. Бязров, Н. В. Дылис, О. Н. Солнцева // Бюлл. МОИП. Отд. биол. - 1969. - Т. 74. - Вып. 1. - С. 85-100.
- Инвариантные продукционно-морфологические характеристики крон деревьев мелколиственных пород / С. Г. Рождественский, Т. А. Гульбе, А. И. Уткин, В. А. Кончиц [и др.] // Лесоведение. - 1991. - № 1. - С. 31-41.
- Опыт оценки массы крон мелколиственных древостоев по параметрам ветвей и ствола / Т. А. Гульбе, С. Г. Рождественский, А. И. Уткин, В. А. Кончиц [и др.] // Лесоведение. - 1991. - № 2. - С. 48-58.
- Аллометрические уравнения для фитомассы по данным деревьев сосны, ели, березы и осины в европейской части России / А. И. Уткин, Д. Г. Замолодчиков, Т. А. Гульбе, Я. И. Гульбе // Лесоведение. - 1996. - № 6. - С. 36-46.
- Аллометрия фитомассы и продукции деревьев лиственницы в высокопродуктивных молодняках / А. И. Уткин, А. А. Пряжников, Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе // Лесоведение. - 2001. - № 1. - С. 54-63.
- Определение запасов углерода по таксационным показателям древостоев: метод поучастковой аллометрии / А. И. Уткин, Д. Г. Замолодчиков, Т. А. Гульбе, Я. И. Гульбе // Лесоведение. - 1998. - № 2. - С. 38-53.
- Замолодчиков, Д. Г. Определение запасов углерода по зависимым от возраста насаждений конверсионно-объемным коэффициентам / Д. Г. Замолодчиков, А. И. Уткин, Г. Н. Коровин // Лесоведение. - 1998. - № 3. - С. 84-93.
- Определение запасов углерода насаждений на пробных площадях: сравнение аллометрического и конверсионно-объемного методов / А. И. Уткин, Д. Г. Замолодчиков, Г. Н. Коровин, В. В. Нефедьев [и др.] // Лесоведение. - 1997. - № 5. - С. 51-66.
- Замолодчиков, Д. Г. Коэффициенты конверсии запасов насаждений в фитомассу для основных лесообразующих пород России / Д. Г. Замолодчиков, А. И. Уткин, О. В. Честных // Лесная таксация и лесоустройство. - 2003. - № 1(32). - С. 119-127.
- Уткин, А. И. Фитомасса и углерод экосистем кедрового стланика России (географический аспект) / А. И. Уткин, А. А. Пряжников // География и природные ресурсы. - 1999. - № 1. - С. 77-83.
- Уткин, А. И. Экология кедрового стланика с позиций углеродного цикла / А. И. Уткин, А. А. Пряжников, Д. В. Карелин // Лесоведение. - 2001. - № 3. - С. 52-62.
- Уткин, А. И. Запасы углерода и его годичные потоки в экосистемах кедрового стланика России / А. И. Уткин, А. А. Пряжников, Д. В. Карелин // Лесоведение. - 2001. - № 4. - С. 38-51.
- Уткин, А. И. Пулы углерода фитомассы, биологического углерода и азота почв в лесном фонде России / А. И. Уткин, Д. Г. Замолодчиков, О. В. Честных // Известия РАН. Сер. географическая. - 2006. - № 2. - С. 18-34.
- Карелин, Д. В. Скорость разложения крупных древесных остатков в лесных экосистемах / Д. В. Карелин, А. И. Уткин // Лесоведение. - 2006. - № 2. - С. 26-33.
- Динамика пулов и потоков углерода на территории лесного фонда России / Д. Г. Замолодчиков, А. И. Уткин, Г. Н. Коровин, О. В. Честных // Экология. - 2005. - № 5. - С. 323-333.
- Замолодчиков, Д. Г. Система конверсионных отношений для расчета чистой первичной продукции лесных экосистем по запасам насаждений / Д. Г. Замолодчиков, А. И. Уткин // Лесоведение. - 2000. - № 6. - С. 54-62.
- Зависимые от фитомассы предикторы надземной части первичной продукции насаждений основных лесообразующих пород России / А. И. Уткин, Д. Г. Замолодчиков, Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе, О. В. Милова // Сибирский экологический журнал. - 2005. - Т. 12. - № 4. - С. 707-715.
- Оценка продуктивности деревьев и древостоев / А. И. Бузыкин, А. М. Исмагилов, Г. Г. Суворова, А. С. Щербатюк // Лесоведение. - 1991. - № 6. - С. 16-25.
- Удельная продуктивность фитомассы древостоев основных лесообразующих пород [Электронный ресурс] / Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе, А. Я. Гульбе, Л. С. Ермолова // Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность, мониторинг и адаптационные технологии : матер. междунар. конф. с элементами научной школы для молодёжи. - Йошкар-Ола : МГТУ, 2010. - С. 197-200. - Режим доступа: http://csfm.marstu.net/publications.html.
- Гульбе, Я. И. Динамика биологической продуктивности южнотаежных древостоев ольхи серой / Я. И. Гульбе // Комплексные стационарные исследования в лесах южной тайги (Памяти М. В. Рубцова). - М.: КМК, 2017. - С. 99-124.
- Программа и методика биогеоценологических исследований. - М.: Наука, 1974. - 404 с.
- Возрастная динамика продукционного процесса в березовом древостое / Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе, Л. С. Ермолова, А. Я. Гульбе // Продукционный процесс и структура лесных биогеоценозов: теория и эксперимент (Памяти А. И. Уткина). - М.: КМК, 2009. - С. 49-67.
- Усольцев, В. А. Методы определения биологической продуктивности насаждений / В. А. Усольцев, С. В. Залесов. - Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2005. - 147 с.
- О наступлении лесной растительности на сельскохозяйственные земли в Верхнем Поволжье / А. И. Уткин, Т. А. Гульбе, Я. И. Гульбе, Л. С. Ермолова // Лесоведение. - 2002. - № 3. - С. 44-52.
- Березняки и сероольшаники центра Русской равнины - экотон между экосистемами хвойных пород и сельскохозяйственными угодьями / А. И. Уткин, Я. И. Гульбе, Т. А. Гульбе [и др.] // Лесоведение. - 2005. - № 4. - С. 49-66.
- Уткин, А. И. Взаимоотношения хвойных и мягколиственных лесообразующих пород в лесоаграрных условиях Русской равнины / А. И. Уткин // Вестник ОГУ. - 2006. - № 4S (54). - С. 103-104.
- Гульбе, А. Я. Процесс формирования молодняков древесных пород на залежи в южной тайге (на примере Ярославской области): дисс. … канд. биол. наук / А. Я. Гульбе. - М., 2009. - 167 с.
- Гульбе, А. Я. Динамика фитомассы и годичной продукции березняков на залежах в подзоне южной тайги / А. Я. Гульбе // Продукционный процесс и структура лесных биогеоценозов: теория и эксперимент (Памяти А. И. Уткина). - М.: КМК, 2009. - С. 229-242.
- Динамика биологической продуктивности молодняков березы на залежи / Я. И. Гульбе, А. Я. Гульбе, Т. А. Гульбе, Л. С. Ермолова // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2016. - Вып. 46. - С. 12-16.
- Динамика биологической продуктивности молодняка ольхи серой на залежи / Я. И. Гульбе, А. Я. Гульбе, Т. А. Гульбе, Л. С. Ермолова // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2017. - Вып. 47. - С. 13-16.