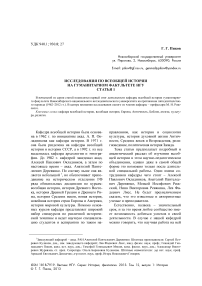Исследования по всеобщей истории на гуманитарном факультете НГУ. Статья 1
Автор: Пиков Геннадий Геннадьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В начальной из серии статей подводится первый итог деятельности кафедры всеобщей истории гуманитарного факультета Новосибирского национального исследовательского университета на протяжении пятидесятилетнего периода (1962–2012 гг.). В центре внимания исследования одного из членов кафедры – профессора М. И. Рижского.
Кафедра всеобщей истории, всеобщая история, европа, античность, библия, атеизм, культура, религия
Короткий адрес: https://sciup.org/147218688
IDR: 147218688 | УДК: 940.1;
Текст научной статьи Исследования по всеобщей истории на гуманитарном факультете НГУ. Статья 1
Кафедра всеобщей истории была основана в 1962 г. по инициативе акад. А. П. Окладникова как кафедра истории. В 1971 г. она была разделена на кафедры всеобщей истории и истории СССР, а в 1992 г. из нее выделилась кафедра археологии и этнографии. До 1982 г. кафедрой заведовал акад. Алексей Павлович Окладников, а затем по настоящее время – акад. Анатолий Пантелеевич Деревянко. По составу ныне она является небольшой 1, но обеспечивает преподавание на историческом отделении ГФ ряда обязательных дисциплин по курсам: всеобщая история, история Древнего Востока, история Древней Греции и Древнего Рима, история Средних веков, новая история, новейшая история стран Европы и Америки, история мировой культуры. Помимо основных курсов кафедра представляет широкий набор спецкурсов по различной исторической тематике и ведет научную специализацию студентов и аспирантов по таким на- правлениям, как история и социология культуры, история духовной жизни Античности, Средних веков и Возрождения, религиоведение, политическая история Запада.
Тема статьи предполагает подробный и аналитический рассказ об изучении всеобщей истории в этом научно-педагогическом объединении, однако даже в самой общей форме это возможно только после длительной специальной работы. Одни имена сотрудников кафедры чего стоят – Алексей Павлович Окладников, Анатолий Пантелеевич Деревянко, Моисей Иосифович Рижский, Нина Викторовна Ревякина, Лев Фадеевич Лисс. Не будет преувеличением сказать, что это известные и авторитетные ученые и преподаватели.
Естественно, полвека – значительный срок, и за это время любое сообщество имеет возможность добиться успехов в своей деятельности. В случае с нашей кафедрой можно говорить, что научная работа на ней никогда не прекращалась, более того, была достаточно интенсивна. Продолжается она и сейчас. И все же, чтобы заострить внимание именно на своеобразном феномене кафедры всеобщей истории, необходимо выделить некий «золотой век» в ее истории, период, связанный, прежде всего, с упомянутыми именами.
Сразу же надо заметить, что кафедра собрала созвездие интересных людей, специалистов, имена которых были широко известны не только в городе или стране. И в этом плане она явно отличалась от многих аналогичных кафедр в других вузах. Чего греха таить, на гуманитарных кафедрах преподаватели редко занимаются всеобщей историей в научном плане, ведь для этого надо знать иностранные языки, в том числе и редкие, и иметь более или менее свободный доступ к источникам. В нашей стране подобные ресурсы всегда ограничены и недостаточны, и потому для такого рода работы необходимы, как минимум, нестандартные энтузиазм и трудолюбие.
Обязательно отметим и то, что университет, факультет и конкретно кафедра добились огромных успехов за удивительно короткий срок – уже в 1960–1970-е гг. Некоторые причины этого уже рассматривались в публицистике. Например, здесь сыграл свою роль метод «десанта» ученых в Новосибирск из других научных и педагогических центров. А. П. Окладников не случайно выбрал М. И. Рижского – он его хорошо знал, работал с ним в поле как археолог и высоко ценил его человеческие качества. На кафедру, действительно, были приглашены высококлассные специалисты и, что не менее важно, глубоко порядочные люди, искренне преданные своей науке.
Попутно следует сказать, что всеобщей историей занимались штатные преподаватели, а не совместители. Для них наука вполне могла бы быть делом второстепенным, и никто бы им не поставил в упрек, если бы они занимались ею «в меру». Они же не ушли в «краеведение», как, возможно, поступили бы на их месте другие. М. И. Рижский говорил еще в Чите: «А как было заниматься историей Древнего мира? Источников нет, литературы нет, до Москвы – семь дней на поезде...» [Пиков, 2012. С. 31], но ведь помимо занятий археологией, и весьма, надо сказать, серьезных и эффективных, он уже там писал свои книги на библейские темы.
Сохранявшиеся активные связи с другими сибирскими, российскими и мировыми центрами, столичными сообществами ученых, с коллегами из других городов тоже сыграли немалую роль. Наш университет активно поддерживали из центра, ведь он был экспериментальным вузом. В тот период в СССР была неплохая политика в области поддержки науки и образования. Можно было регулярно ездить в командировки, пусть и не за границу. Очень важна и политика университетского руководства с акцентом на науке. Гуманитарии всегда ценились в городе. Их уже тогда с удовольствием брали на работу и без восточных языков.
Очень важно, что эти ученые великолепно знали свое ремесло – мастерски владели различными историческими технологиями, языками, могли и источник высокопрофессионально перевести, и написать достойный научный труд, в том числе вполне литературным языком.
У них были свои учителя, прежде всего, московские ученые, и неудивительно, что и они в свою очередь становились подлинными наставниками для студентов. Заниматься всеобщей историей в Сибири, пусть и под руководством таких талантливых учителей, было непросто, и на эту специализацию шли сильные студенты. Педагогика личного примера играла особую роль.
Сказывалась, думается, и специфика мышления этих людей – системность, проблемность, научная эрудированность. Очень важны такие их личные качества, как трудолюбие, научная активность, профессиональная и человеческая честность.
«Всеобщая история» – понятие емкое. В ее рамках можно заниматься и очень узкими, конкретно-историческими исследованиями, интересными, пожалуй, только узким же специалистам. Между тем можно уверенно утверждать, – у членов кафедры всегда преобладал интерес к особо значимым, даже знаковым темам, раскрывающим основные, узловые моменты истории, которые в то время привлекали не только исследователей, но и широкий круг людей. Это, например, экзистенциальные библейские книги Экклезиаста, Иова, Даниила, библейские проблемы, интересовавшие Моисея Иосифовича Рижского, творчество достаточно загадочного итальянского гуманиста Лоренцо Валлы, антропология итальянского Ренессанса, которой активно занималась
Нина Викторовна Ревякина, европейская общественная мысль или университетское образование на современном этапе, признанным специалистом в истории которых заслуженно считается Лев Фадеевич Лисс. Даже Алексей Павлович Окладников, первый руководитель кафедры, хотя и был археологом по профессии и призванию, поднимал нестандартные темы происхождения искусства, специфики древней евразийской истории. В общем, если преобладающей сферой интересов отдельных членов кафедры и оставалась сибирская археология, они активно поддерживали интересы и деятельность других преподавателей. Хрестоматийным примером этого является, естественно, поддержка А. П. Окладниковым (да и всей кафедрой тоже, на самом деле!) деятельности М. И. Рижского, работы которого далеко не просто находили путь к публикации.
Обязательно надо отметить то, что работы А. П . Окладникова, М . И . Рижского, Н. В. Ревякиной получали и общественный резонанс – становились фактами культуры. Их обсуждали и обсуждают до сих пор – и весьма эмоционально, на них опираются, с ними спорят. И связано это со многим – и со спецификой тем, качеством работ, оригинальностью подходов. С их трудами, введенным в оборот научным материалом, идеями можно и нужно работать. И не случайно эти работы были и остаются популярны до сих пор. Думается, это связано, помимо знаковости тем, и с калибром исследований, и неординарностью идей их авторов. Эти работы сразу же занимали заметное место в мировой науке, однако и в нынешнее нестандартное время они не потеряли своего значения.
Разумеется, это не была единая команда, выполнявшая некую определенную программу исследования. Если не считать ученых, связанных с археологией и соответственно работающих по научным программам (А. П. Окладников, А. П. Деревянко), все остальные члены кафедры трудились, что называется, на свой страх и риск. Это не нечто необычное, такое случается на кафедрах сплошь и рядом. Но, безусловно, феноменальными являются масштаб работы и уровень достижений.
Самое яркое свидетельство этого феномена – деятельность Моисея (Михаила) Иосифовича Рижского (30 октября 1911 г., местечко Воронеж Черниговской губернии – 19 августа 2000 г., Новосибирск) (см.: [Пиков, Мякин, 2002; Пиков, 2007; 2009; 2011а; 2011б; 2012]). Он был не только широко известным в ученом мире специалистом по истории религии в целом и Библии в частности, но и выдающимся преподавателем гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, оказавшим исключительное интеллектуальное и нравственное влияние на длинный ряд поколений студентов.
М. И. Рижский прошел обучение и отличную научную школу на историческом факультете МГУ у В. К. Никольского, С. А. Токарева, А. Б. Рановича. Темой его дипломной работы было «Восстание Маккавеев в Иудее во II веке до н. э.». Защита им диссертации по теме «Рабство в сельском хозяйстве древней Италии по сочинениям римских агрономов» [Рижский, 1950; 1951] состоялась зимой 1950 г., и этот год можно считать началом его большой научной деятельности.
После защиты он оказался в Чите, где провел 12 лет и преподавал в Читинском педагогическом институте, оставив заметный след [Забайкальский…, 1998. С. 41]. Здесь же в 1952 г. он встретился с А. П. Окладниковым и увлекся археологией. Однако главная сфера его научных интересов оставалась неизменной – Библия. В эти же годы работы в Читинском педагогическом институте он публикует свои первые крупные исследования на религиозную и библейскую темы 2, а также делает переводы с латинского языка [Деконский, Рижский, 1954] (см. также: [Рижский, 1958]). С этого времени основным направлением научной работы ученого становится исследование текстов Библии.
В 1962 г. А. П. Окладников приглашает М. И. Рижского на только что открывшийся гуманитарный факультет Новосибирского университета. Университет был молодой, и надо было создавать соответствующую научную базу, формировать штат высококвалифицированных преподавателей. С 1965 г. Михаил Иосифович – бессменный преподаватель латыни и истории Древнего Востока на гуманитарном факультете НГУ. Филологов он обучал премудростям латыни, вел то, что раньше называлось «Основами научного атеизма», а потом медленно становилось, хотя так и не стало «Историей религии». Впрочем, менялись только названия и мода на «подходы», он же всегда давал знания. Ученый регулярно проводил специальные семинары и спецкурсы по библеистике и истории религии («История Библии в России», «Римская поэзия I в. до н. э.»), готовил аспирантов и дипломников по таким предметам, как история мировых религий, история христианства и библеистика. На спецкурсы к нему ходили не только историки, потому что у Михаила Иосифовича был редкий дар рассказчика.
Наряду с этим М. И. Рижский в течение двадцати лет исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой академика А. П. Окладникова. Им была проделана огромная организационная работа по становлению исторической специальности в университете – разработка учебного плана специальности, программ ряда курсов, руководство работой молодых преподавателей. Своим мастерством педагога он охотно делился с молодыми, давая навыки построения современного вузовского курса.
О себе он говорил просто: «Ученого крупного из меня не получилось». Это, разумеется, не так. В свое время ему предлагали «Историю переводов Библии в России» сделать докторской диссертацией 3, но он уже решил для себя, что главное – переводы.
Именно в занятиях библеистикой особенно ярко проявились его незаурядные исследовательские способности. М. И. Рижского как исследователя отличает целый ряд особенностей, скорее характерных для старого поколения ученых, чем современного, и ярко проявившихся, пожалуй, именно в этом направлении научной деятельности. Прежде всего, это огромная эрудиция в самых различных науках, без знакомства с которыми невозможно просто адекватное понимание такого сложнейшего текста, как Библия. Его книги и статьи, лекции и практические занятия явственно свидетельствуют не просто о знакомстве, но и о глубоком знании филологических дисциплин, самых разнообразных разделов исторической науки. В области теологии и религиоведения он, можно смело сказать, не уступал соответствующим специалистам. И в лекциях, и в научных трудах обнаруживаем немало свидетельств его компаративистского подхода к различным проблемам. Все это позволило ему внести существенный вклад в ряд важнейших тем и создать труды, которые еще долго будут востребованы не только в научной среде.
Даже занятия археологией не прошли для него даром. Он хорошо знал литературу о традиционных обществах, этнографический и археологический материал, а библейский текст родом именно из традиционного общества. Подход к Библии как синтетическому культурному тексту, впитавшему в себя и переработавшему различные культурные пласты крупнейших метарегионов (Средиземноморье, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия), неизбежно заставлял проводить сравнительно-исторический и сравнительно-литературный анализ.
Эрудированность М. И. Рижского была широко известна, как и его вдумчивый и сложный подход к происходящему. Много информации он получал и благодаря огромному интересу к языкам. Рижского отличало не только глубокое знание филологии как науки, но и прекрасное владение такими обязательными «инструментами» исследователя, как языки. Помимо основных древних языков (древнееврейского, латыни, древнегреческого), он использовал и многие современные. Знание древних и современных языков, истории Античности от Атлантиды до Индии, риторики, археологии (классической и сибирской) отражалось в его лекциях. Это позволяло ему создавать свои труды с учетом всех достижений науки.
По его трудам можно видеть, что он владел множеством исторических технологий, навыками филологического анализа, обладал системным знанием разных культур. Особо следует отметить системное атеистическое образование и общий интерес к системной идеологии, от иудаизма до марксизма, хотя он и брал последний лишь как метод. В этом плане творчество М. И. Рижского не вписывалось в формирующийся постмодернистский подход к гуманитарной науке, где преобладало стремление к индивидуалистическому вос- приятию проблем, к их эссеистскому описанию, а не анализу, отказу, по сути, от мак-роисторического подхода в принципе. Несмотря на свою широкую образованность, не был М. И. Рижский и эрудитом в общепринятом смысле, поскольку для него важны были не только и не столько мнения отдельных исследователей, сколько опора на факты, строго рационалистический их анализ.
Поэтому он не пересказывал для читателей Библию и не критиковал так называемых «буржуазных» исследователей, хотя упоминал их мнения, не скрывая своего к ним отношения, а применял качественно иной подход – ставил особо значимые вопросы. Преподавание курсов и спецкурсов, связанных с историей Древнего Мира и библеистикой, чтение лекций по линии общества «Знание» стали для него своеобразной лабораторией по проверке этих идей на слушателях самого разного уровня восприятия, образования, интересов. Безусловно, помогали и языки, которыми он владел: «по горизонтали» – это современные языки и «по вертикали» – латинский, греческий.
У него была своя, достаточно оригинальная и сложная личная исследовательская методология. На его творчество огромное влияние оказали просветительские подходы и идеи. Любопытно, что М. И. Рижский пытается через парадигму Просвещения понять парадигму же, но библейскую. Жаль, конечно, что в итоге у него не получилось (или он не захотел?) выйти в этом плане на какой-то универсально-аналитический уровень.
Примеров применения в его работах положений гуманистов и просветителей можно привести немало, например следующие.
-
• Исторический процесс зависит от человеческой природы. Движущая сила истории – социально-политическая борьба (Л. Бруни, Ф. Биондо, Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини. Я. Вимпфелинг, Ж. Боден).
-
• Всеобщая история должна быть сравнительной (Вольтер).
-
• История есть непрерывный процесс (Ж. Кондорсе).
-
• Экономические факторы и классовая борьба играют особую роль (Сен-Симон).
Именно М. И. Рижский практически первым в нашей стране поставил проблему внутреннего исследования Библии независимо от идеологии, в том числе и коммуни- стической (поэтому долго и не издавал свои труды). Эту задачу он выдвигал в своих статьях и в книге «Что такое Библия» [1960].
Именно М. И. Рижский первым (если не считать атеистически-полемической и предельно популяризованной «Книги о Библии» Иосифа Ароновича Крывелева (М., 1959)) написал сводный и независимый очерк о Библии. Несмотря на популярный характер, книга поднимает целый ряд важнейших вопросов.
Другой, несомненно, новаторской заслугой М. И. Рижского было начатое им полное и независимое исследование истории переводов Библии. Результатом этой работы, апробированной в различных статьях и докладах, а также (особо хочу это подчеркнуть!) в лекциях общих курсов и спецкурсах, стала его известная монография «История переводов Библии в России» [1978а], заложившая фундаментальную основу для развития этого направления.
Одним из важных положений концепции М. И. Рижского был тезис о том, что библейско-христианская традиция является составной частью комплекса культуры обширного метарегиона, включающего в себя районы не только Средиземноморья, но и Ближнего и Среднего Востока. Это отразилось в параллельной работе Рижского по переводу многочисленных и разнообразных источников с латинского.
Многого он сделать не успел, но особенно широко известны его переводы трактатов Цицерона. Эту книгу, вышедшую в 1985 г. в серии «Философские трактаты», отметили все крупные отечественные и зарубежные исследователи. Философские трактаты «О природе богов», «О дивинации» и «О судьбе» составляют полный цикл сочинений Цицерона, специально посвященных им критике типичных для античного мира суеверий. Публикация этого цикла на русском языке в одной книге предпринималась впервые. Все три трактата давались в новом переводе. Книга была снабжена вступительной статьей, примечаниями и указателями.
М. И. Рижский успел издать только два своих перевода библейских книг. Среди них, несомненно, выделяется «Книга Иова» [1991]. Монография представляет собой историко-филологический анализ вошедшей в библейский канон Книги Иова. Автор доказывает, что в основе этого произведения лежала философская поэма анонимного древнего автора, чьи взгляды отличались удивительной для той эпохи широтой и религиозным свободомыслием. Позже поэма подверглась обработке представителями ортодоксально-богословской традиции. Они внесли в первоначальный текст целый ряд изменений и привели его в соответствие с официальной догмой. В книгу вошли авторский светский научный перевод с еврейского оригинала на русский язык оригинального текста Книги Иова и подробный историко-лингвистический комментарий. Были учтены не только многочисленные разночтения в различных версиях и рукописях Книги Иова, но и сделана попытка восстановить первоначальный смысл оригинала, искаженный позднее добавлениями и переделками.
Перевод М. И. Рижским Книги Экклезиаста [1995] стал одним из классических. На основе своих переводов М. И. Рижский подготовил несколько работ о библейском свободомыслии, выведя тем самым эту тему на широкий научный простор 4. Особое место в творчестве М. И. Рижского занимал цикл работ о библейской теодицее (богооправдании) [1987; 1978б].
Работа над переводом книги пророка Даниила имела важное значение в творчестве М. И. Рижского и была полностью закончена перед самой смертью ученого. Текст книги подготовлен к печати, но, к сожалению, по разного рода причинам, до сих пор не издан, хотя решения о его издании принимались неоднократно, в том числе и на уровне ректората 5.
В результате в его работах (правда, во фрагментарном виде – в статьях и монографиях) фактически заложены основы истории древнееврейской культуры. Сейчас трудно сказать, видел ли он сам такую возможность. К тому же М. И. Рижский настолько основательно подходил к истории этой культуры, что считал необходимым предварительно проработать сам библейский текст, как основу основ. Однако общая концепция этой истории, хотя и не в «чистовом» варианте, у него прослеживается.
Подводя итог, хотелось бы отметить ряд моментов, которые имеют безусловное значение для понимания личности Моисея Иосифовича и оценки его вклада в науку. М. И. Рижский стал одним из пионеров современного религиоведения. Разумеется, особенности воспитания и образования, специфика существования в сложной социальной и идеологической ситуации не могли не отразиться на его взглядах. Вместе с тем для его научных трудов характерны глубокий анализ, на самом высоком уровне современного мирового религиоведения, и редкостное сочетание глубокого исторического знания и блестящих филологических навыков, независимость подлинного ученого и космополита. В целом можно повторить, что «атеизм» Рижского – это атеизм Иова, т. е. сочетание высокой морали со страстным стремлением найти объективный смысл в субъективном мире.
И все же здесь рассмотрен лишь один аспект творчества М. И. Рижского, связанный с «делом всей его жизни», как он сам говорил, а именно с библеистикой. Да, он особенно важен и заметен. Между тем это не единственное, чем он занимался. Он – археолог, филолог, историк, библеист, атеист, преподаватель.
И, разумеется, необходимо издавать его работы. Либо в виде трехтомника, как это было запланировано на факультете сразу после его смерти, либо в каком-нибудь ином виде. Но издавать непременно! Эти работы не потеряли своей ценности, ни научной, ни общественной. Мне кажется, наоборот, сейчас, в условиях тяжелой болезни культуры и общества, они особенно необходимы.
Список литературы Исследования по всеобщей истории на гуманитарном факультете НГУ. Статья 1
- Деконский А. А., Рижский М. И. Юстин: Эпитома сочинения Помпея Трога «Historical Philippical» // Вестник древней истории. 1954. № 2-4. С. 17-35.
- Забайкальский государственный педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского. История и современность: 1938-1998 гг. Чита, 1998. 158 с.
- Пиков Г. Г. Атеизм профессора М. И. Рижского в контексте истории европейского атеистического дискурса // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2007. Т. 6, вып. 1: История. С. 86-105.
- Пиков Г. Г. Книга М. И. Рижского «Что такое Библия?» в контексте истории советского религиоведения // Сибирь на перекрестье мировых религий. Материалы IV Межрегион. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2009. С. 6-15.
- Пиков Г. Г. Атеизм М. И. Рижского. Из истории европейского атеистического дискурса. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing GmbH & Co., 2011а. 176 с.
- Пиков Г. Г. Magister dixit: О Моисее Иосифовиче Рижском и некоторых проблемах библеистики. Новосибирск: Манускрипт, 2011б. 351 с.
- Пиков Г. Г. Magister dixit: О Моисее Иосифовиче Рижском и некоторых проблемах библеистики. Новосибирск, 2012. 304 с.
- Пиков Г. Г., Мякин Т. Г. М. И. Рижский - ученый-библеист // Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы конф. Новосибирск, 2002. С. 7-16.
- Рижский М. И. Рабство в сельском хозяйстве Древней Италии (II в. до н. э. - I в. н. э.): Дис. … канд. ист. наук. М., 1950. 376 с.
- Рижский М. И. Рабство в сельском хозяйстве Древней Италии (II в. до н. э. - I в. н. э.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1951. 16 с.
- Рижский М. И. О применении рабского труда в сельском хозяйстве древней Италии (в I в. н. э.) // Вестник древней истории. 1958. № 2. С. 156-165.
- Рижский М. И. Беседы о религии. Чита, 1959. 88 с.
- Рижский М. И. Что такое Библия. Чита, 1960. 182 с.
- Рижский М. И. Образ Иова в Книге Иова и в ее арамейском переводе из кумранского грота XI // Бахрушинские чтения. 1973. Новосибирск, 1973. С. 3-17.
- Рижский М. И. Иов Септуагинты // Бахрушинские чтения. 1974. Новосибирск, 1974. С. 152-172.
- Рижский М. И. История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978а. 207 с.
- Рижский М. И. Проблема теодицеи в «Книге Экклезиаст» // Бахрушинские чтения. 1978. Новосибирск, 1978б. С. 121-129.
- Рижский М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. М., 1987. 366 с.
- Рижский М. И. Книга Иова: из истории библейского текста. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. 248 с.
- Рижский М. И. Библейские вольнодумцы. М., 1992. 236 с.
- Рижский М. И. Книга Экклезиаста: в поисках смысла жизни. Новосибирск, 1995. 225 с.