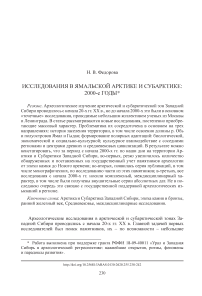Исследования в Ямальской Арктике и Субарктике: 2000-е годы
Автор: Федорова Н.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Полярная археология
Статья в выпуске: 255, 2019 года.
Бесплатный доступ
Археологическое изучение арктической и субарктической зон Западной Сибири проводилось с начала 20-х гг. XX в., но до начала 2000-х это были в основном «точечные» исследования, проводимые небольшим коллективом ученых из Москвы и Ленинграда. В статье рассматриваются новые исследования, постепенно приобретающие массовый характер. Проблематика их сосредоточена в основном на трех направлениях: история заселения территории, в том числе освоения долины р. Обь и полуостровов Ямал и Гыдан; формирование полярных адаптаций: биологической, экономической и социально-культурной; культурное взаимодействие с соседними регионами и центрами древних и средневековых цивилизаций. В результате можно констатировать, что за период с начала 2000-х гг. по наши дни на территории Арктики и Субарктики Западной Сибири, во-первых, резко увеличилось количество обнаруженных и поставленных на государственный учет памятников археологии от эпохи камня до Нового времени; во-вторых, появилась серия публикаций, в том числе монографических, по исследованию части из этих памятников; в-третьих, все исследования с начала 2000-х гг. носили комплексный, междисциплинарный характер, в том числе были получены внушительные серии абсолютных дат. Не в последнюю очередь это связано с государственной поддержкой археологических изысканий в регионе.
Арктика и субарктика западной сибири, эпоха камня и бронзы, ранний железный век, средневековье, междисциплинарные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/143168964
IDR: 143168964
Текст научной статьи Исследования в Ямальской Арктике и Субарктике: 2000-е годы
Археологические исследования в арктической и субарктической зонах Западной Сибири проводились с начала 20-х гг. XX в. Главной задачей первых исследователей был поиск памятников, их – по возможности – небольшие
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-09-40011 «Урал и Западная Сибирь в археологической ретроспективе: важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы развития».
раскопки или хотя бы шурфовка, публикации материалов с теми выводами, которые были возможны по небольшим коллекциям, полученным в почти неизвестном с точки зрения археологии регионе. Отметим, что число заинтересованных исследователей было крайне малочисленным, более или менее постоянный интерес к изучению территории проявляли лишь В. Н. Чернецов, В. И. Мошинская и Л. П. Хлобыстин. Итоги развития арктической археологии были подведены в 1990 г. Л. П. Хлобыстиным в статье «200 лет арктической археологии» ( Хлобыстин , 1990. С. 3–8). Север Западной Сибири даже на этом общем фоне выглядит довольно бледно. Мало изменилась ситуация и в конце 90-х – начале 2000-х. Не вдаваясь в изложение полной историографии вопроса и отсылая читателя к уже опубликованным по этому поводу работам (История Ямала, 2010; Косинская, Федорова , 1994; Федорова , 2016), отметим, что к началу 2010-х гг. ситуация сложилась следующая: активно изучались и – что важно – исчерпывающе публиковались в основном городища (городки) позднего Средневековья – Нового времени – Надымский, Войкарский, Полуйский, русский город Мангазея ( Визгалов, Пархимович , 2008; Кардаш , 2013а; 2013б). Хотя к 2010 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) были так или иначе известны памятники практически всех эпох: камня, бронзы и железа, лишь небольшая часть из них подвергалась стационарным раскопкам (История Ямала, 2010. С. 10–88, см. там же библиографию).
Проблематика современных научных исследований севера Западной Сибири сосредоточена в основном по трем направлениям:
история заселения территории, в том числе освоения долины р. Обь и полуостровов Ямал и Гыдан;
формирование полярных адаптаций: биологической, экономической и социально-культурной;
культурное взаимодействие с соседними регионами и центрами древних и средневековых цивилизаций.
Необходимо отметить, что все исследования последних десяти и даже более лет носят мультидисциплинарный характер.
Заселение территории Арктики и Субарктики в границах современного ЯНАО происходило в различные эпохи и по различным причинам. В последнее время сформирована гипотеза о перспективности субмеридионального отрезка Оби от устья Иртыша до устья Оби для поисков памятников верхнего палеолита, что было подтверждено в результате полевых исследований новосибирских геологов и археологов в 2016 г. ( Зольников и др ., 2018. С. 30–38). Кроме того, еще в 1993 г. при обследовании берегов р. Войкар на отмели было собрано несколько орудий позднепалеолитического времени и одно – даже мустьерского облика, залегавших вместе с остатками мамонтовой фауны ( Погодин , 2000. С. 69–71). Вместе с тем, по мнению А. А. Погодина, «представляется сомнительным поиск какого-либо “единственного пути” заселения Севера Западной Сибири» (Там же. С. 74) как в эпоху палеолита, так, впрочем, и в эпоху мезолита.
При этом природные условия во время палеолита – мезолита, по мнению зоологов, были весьма благоприятными. Так, отмечено, что в конце позднего плейстоцена и в голоцене (последние 45 000 лет) на территории севера Западной Сибири непрерывно существовала достаточно богатая фауна млекопитающих, включающая в том числе и разнообразные промысловые виды, что могло обеспечить непрерывное обитание человека в регионе (Косинцев, Бачура, 2017. С. 13, 14).
Мезолитических памятников на арктической и приарктической территории Западной Сибири известно около шести, причем отнесение некоторых из них к мезолитическому времени проблематично. Раскопок стоянок с культурным слоем не производилось, в основном все они представляют собой сборы с разрушенной в той или иной степени поверхности. Расположение мезолитических памятников по территории современного ЯНАО имеет достаточно широкий разброс: от бассейна р. Пур на востоке до границ современного г. Салехарда на западе. Л. Л. Косинская отмечает несколько проблем в исследованиях мезолита севера Западной Сибири (История Ямала, 2010. С. 32, 33), а именно: установление верхнего и нижнего рубежей мезолитической эпохи на данной территории; проблема культурной атрибуции – принадлежали ли они к одной из культур, локализованных в соседних регионах, или представляют местную культуру со своими особенностями; наконец, проблема происхождения северного мезолита.
Ситуация с памятниками эпохи неолита в западносибирской Субарктике ненамного лучше. Собственно, на сегодняшний день известно три памятника: поселения Ет-то I и Ет-то II, а также промысловый комплекс Вора-яха. Первые два поселения частично раскопаны (на поселении Ет-то I вскрыто 4 жилища с радиокарбоновыми датировками VI тыс. до н. э., на поселении Ет-то II исследовано 12 объектов, два из которых интерпретированы как жилища, остальные – производственные объекты, радиокарбоновые датировки укладываются в промежуток VII – первой трети V тыс. до н. э) ( Косинская , 2017. С. 149). Л. Л. Косинская отмечает сходность конструкций жилищ – полуземлянок с наземным выходом, каменного инвентаря, сырье которого, по-видимому, являлось местным. Еттовский комплекс, по ее мнению, входит в группу ранненеолитических культур (Там же).
Разделение памятников энеолита – ранней бронзы северной части Западной Сибири часто встречает определенные затруднения как в силу их недостаточной исследованности, так и небольшого количества материала для столь обширной территории. Надо отметить, что лучше изучена западная часть приарктической и арктической территории региона, в восточной обнаружено и частично исследовано пять поселенческих памятников, о некоторых из них автор раскопок и публикации Л. Л. Косинская прямо пишет: «…в составе находок удивительно мало керамики» (История Ямала, 2010. С. 53; там же – историография). Для западной части региона имеется подробный очерк историографии эпохи энеолита – бронзы, написанный в свете самых последних исследований, поэтому здесь мы не будем на этом останавливаться (см.: Тупахина, Тупахин, 2018). На основе довольно большого количества памятников О. С. Тупахина и Д. С. Тупахин приходят к выводу о наличии здесь трех культурных типов в эпоху энеолита – конкретно в III тыс. до н. э., – связанных с различными типами адаптации к различным условиям местности. По их мнению, выбор той или иной хозяйственной модели в качестве основы экономики зависел от ее продуктивности на определенном хозяйственном отрезке. Выбранная хозяйственная стратегия, в свою очередь, определяла специфические черты культурных типов (Там же). Первый культурный тип (опорный памятник – поселение Горный Самотнел 1) отличается долговременными круглогодичными поселениями с мощным культурным слоем и большой площадью жилищ, хозяйством, ориентированным на сетевое рыболовство (Тупахина, Тупахин, 2018). Памятники второго типа (опорный памятник – поселение Лов-Санг-Хум II), располагаясь на малых притоках Оби, отличаются сезонным характером, маломощным культурным слоем, небольшими по площади жилищами, хозяйством, основанным на запорном рыболовстве и охоте (Там же). Третий тип (опорный памятник – Йоркутинская стоянка) типичен для обитателей внутренней тундры Ямала, основой хозяйственной деятельности могла быть охота на северного оленя (Там же). Даты поселения Горный Самотнел 1 определены по методу дендрохронологии. Отметим, что климат в это время позволял древесной растительности произрастать на территории юга полуострова Ямал.
Эпоха бронзы представлена небольшим количеством памятников. Раскопки производились на поселениях Щетнмато-лор (Пуровский район) ( Косинская , 2000. С. 14–19), Паром 1 (в границах современного г. Салехарда) и Вары-Хады-та II (юг полуострова Ямал) ( Васильев , 2000. С. 24–31), на остальных были собраны коллекции предметов на разрушенной поверхности. Раскопы на двух поселениях вскрыли жилище на поселении Щетнмато-лор и часть межжилищного пространства на поселении Вары-Хадыта II. Они дали обильный керамический материал, серии каменных изделий, незначительные следы бронзолитейного производства. На поселении Пяку-то I в разрушенном культурном слое была обнаружена бронзовая височная подвеска, выполненная из медно-серебряного сплава (История Ямала, 2010. С. 59), что, по мнению Л. Л. Косинской, указывает на южный вектор связей населения региона (Там же). Конструкции жилищ довольно однотипны: полуземлянки с коридором-выходом. Керамика восточных памятников отличается от западных (типа Вары-Хадыта), во-первых, своей плоскодонностью, во-вторых, отсутствием такой характерной формы, как ладьевидные сосуды с зооморфными налепами, которые столь характерны для поселений энеолита – бронзы западного ареала. Возможно, это может служить указанием на разные пути заселения территории. Е. А. Васильев рассматривает формирование культуры памятников типа Вары-Хадыта как результат смешения мигрантов из центральной части Нижнего Приобья (сартыньинская культура) и местного населения, оставившего Йоркутинскую стоянку эпохи энеолита ( Васильев , 2000. С. 28).
Археологические памятники раннего железного века изучены, как и памятники предыдущих периодов, недостаточно: в основном это материалы с разрушенных более поздними культурными слоями памятников (поселение Зеленая Горка, стоянка на Обдорском холме) либо объекты, вообще по разными причинам не подвергавшиеся стационарным раскопкам (поселения Катра-вож и Пель-вож) ( Мошинская , 1965. С. 17, 18). Наиболее полно изучен сакрально-производственный центр Усть-Полуй. С момента обнаружения этого памятника и его первых раскопок, проведенных В. С. Адриановым в 1935–1936 гг., он становится одним из наиболее известных и, до некоторой степени, опорных памятников севера Западной Сибири. В 2017 г. мы подвели итоги многолетних междисциплинарных исследований на Усть-Полуе (Археология Арктики, 2017). На памятнике к настоящему времени вскрыто 2208 кв. м из 3200 кв. м общей площади.
Проведено абсолютное датирование культурного слоя и отдельных сооружений по методам C14, AMS и дендрохронологическому, всего имеется 48 абсолютных дат, укладывающихся в промежуток III в. до н. э. – II в. н. э. Было выделено два основных периода обустройства сакрально-производственного центра: период древнего святилища (III–II вв. до н. э.) и период сакрально-производственного центра (I в. до н. э. – II в. н. э.). Во время последнего на территории памятника были отмечены места выплавки бронзы и плавки железа, следы косторезного и камнеобрабатывающего производств, из-за чего памятник и получил свое название. Тогда же был сооружен ров, отделяющий сакральное пространство от обыденного ( Гусев, Федорова , 2017. С. 19–64). Палеоклиматические исследования показали, что в период возникновения центра климат сменился на более холодный и влажный, что привело к расширению зоны тундры и лесотундры, а также к заболачиванию большинства озер региона ( Панова, Янковска , 2008. С. 64). Это вызвало необходимость смены основной хозяйственной парадигмы населения с преимущественно охотничье-рыболовческой на оленеводческую, что, в свою очередь, сказалось на всех сферах жизни местного населения, в том числе внесло много изменений в социальную жизнь населения, посещавшего Усть-Полуй. Так, впервые зафиксировано появление статусного набора украшений и принадлежностей костюма ( Федорова , 2017. С. 124) и парадного доспеха ( Гусев , 2017. С. 39).
Самое большое количество памятников, зафиксированных и частично исследованных на территории современного ЯНАО, относятся к эпохе Средневековья – их в десять раз больше, чем более ранних. Совершенно очевидно, что такое количество памятников, причем крайне разнообразных (городища, поселения, кратковременные стоянки, могильники, клады), означает и резкое увеличение населения. Именно в Средневековье начинает интенсивно осваиваться зона тундры, в том числе – полуострова Ямал и Гыдан. Но Гыдане исследования только начались, и если на юге полуострова известно к настоящему времени несколько поселений и могильников (Ткачев, 2017. С. 122–154), то на севере был обнаружен пока только один разрушенный памятник, представляющий собой, вероятно, могильник конца I тыс. н. э., и несколько местонахождений того же времени (Гусев, Плеханов, 2016. С. 22–24). Ямал изучен значительно лучше. К 2010 г. там было зафиксировано четыре микрорайона со значительной концентрацией поселенческих памятников: Тиутейский в подзоне арктических тундр, два в бассейнах р. Нгури-яхи и Юнета-яхи и четвертый – Яртенский (бассейн р. Юрибей). Три последние – в подзоне типичных тундр (История Ямала, 2010. С. 62–64). Было также обнаружено и частично исследовано три могильника конца I – начала II тыс. н. э. Выяснено, что на полуострове Ямал памятники ранних эпох (от эпохи камня до раннего железного века) известны лишь на юге полуострова. К северу от р. Юрибей фиксируются многочисленные памятники начала эпохи Средневековья, т. е. V–VII вв. н. э. (Гусев и др., 2016. С. 234). Абсолютное большинство из них представлено кратковременными (летними) стоянками, что, по мнению А. В. Плеханова, отражает последовательный характер формирования кочевой культуры, основанной на крупностадном оленеводстве (Плеханов, 2014. С. 534). К числу уникальных памятников относится городище Ярте VI в среднем течении р. Юрибей, обильные артефакты из культурного слоя которого и беспрецедентное количество костей северного оленя свидетельствуют о его товарной добыче на местах традиционных миграций оленьих стад (Плеханов, 2014. С. 532–534). Тем не менее, несмотря на мощный культурный слой, Ярте VI является сезонным поселением, обитаемым с июня по сентябрь (Там же).
Могильников на полуострове Ямал известно всего три: на юге полуострова – грунтовый могильник Хето-Се 1, датированный IX–X вв. н. э. ( Брусницына , 2000. С. 32–48); могильник Юр-Яха 3 в бассейне р. Юрибей ( Плеханов , 2016. С. 18–21) и могильник Бухта Находка 2, в котором, по мнению раскопавшего его О. В. Кардаша, выделяются две группы захоронений: VI–VII вв. н. э. и XII– XIII вв. н. э. ( Кардаш, Гайдакова , 2017. С. 331–335). Могильник Хето-Се к моменту исследований, проведенных А. Г. Брусницыной, был сильно разрушен как несанкционированными раскопками, так и ветровой эрозией, о его погребальном обряде трудно говорить что-нибудь определенное. Лишь два погребения были раскопаны А. В. Соколковым ( Брусницына , 2000. С. 17). Общая датировка могильника, включая серию артефактов из несанкционированных раскопок, определяется IX–XII вв. н. э. Могильник Юр-Яха 3 датирован XI–XII вв. Необходимо отметить, что, кроме обычных для региона захоронений в позе «вытянуто на спине», на всех трех ямальских кладбищах зафиксированы женские и детские захоронения в позе «скорченно на боку».
На континентальной части территории памятников эпохи Средневековья известно довольно много, но раскопанных с достаточной для каких-то выводов поселенческих комплексов, не считая так называемых городков позднего Средневековья и Нового времени, всего четыре, из них одно городище, два поселения и комплекс, состоящий из литейной мастерской и двух грунтовых могильников. Кроме того, именно в Средневековье в массе появляются клады, основная часть которых состоит из серебряных изделий дальнего импорта.
Наибольшую часть памятников времени раннего Средневековья составляют укрепленные поселения, к этому времени окончательно формируются несколько типов городищ: от сравнительно маломощных, расположенных на площадке террасы памятников, окруженных одним рядом оборонительных сооружений из вала и рва, до мысовых, выстроенных на высоких мысах и с напольной стороны укрепленных несколькими рядами валов и рвов. Причем все они зафиксированы в северотаежной зоне, в лесотундре встречаются только поздние городки, образующие своего рода северный фронтир для обороны от обитающих в тундре кочевников-оленеводов. Раскопками изучались только некоторые поздние городки (Надымский и Войкарский) и лишь одно городище времени раннего Средневековья. А. Г. Брусницына заметила увеличение памятников времени VI – начала XII в. в северной зоне Нижнего Приобья (Брусницына, 2002. С. 14), связав это с демографическими скачками и периодическими потеплениями климата (Там же). Вероятно, ситуация с демографическими скачками или, вернее, с резким увеличением населения в эпоху Средневековья ни в коем случае не объясняется климатическими перепадами, т. к. в это время мало того что резко возросло количество городищ, что само по себе требует объяснения, но и была заселена вся зона тундры – от южных тундр до арктических (см. выше). Демографический рост, скорее всего, был вызван переходом значительной части населения к производящему хозяйству, а именно – оленеводству, что, во-первых сделало пищевой рацион более стабильным а во-вторых, этот же фактор способствовал формированию регионального рынка, через который шел обмен «северных» товаров на «южные», т. е. продуктов оленеводства, мехов, моржовой кости на древесину и изделия из нее, бересту, предметы дальнего импорта и вещей из Предуралья. Взаимоотношения «оседлые – кочевники» на севере строились примерно по тому же сценарию, что и на юге, в лесостепи и степи, слагаясь как из военных конфликтов, из-за которых и возникла необходимость в цепи городищ с мощными укреплениями, так и из партнерских отношений на местных рынках.
Состав упоминавшихся выше кладов дает нам, с одной стороны, недвусмысленные свидетельства резкой дифференциации общества, с другой – наличия хорошо отлаженных торговых путей не только с запада на восток, но и с востока на запад ( Федорова , 2015. С. 56–66). О далеко зашедшей социальной дифференциации общества свидетельствует и массовое распространение статусных украшений, принадлежностей костюма и вооружения, причем преимущественно мужских. С этих пор местная культура отчетливо распадается на бытовую, стабильную, традиционную и элитную, мобильную, подверженную изменениям, диктуемым в том числе и своего рода модой, что отразилось в распространении не только импортных вещей, но и местных подражаний им.
Исследования последних десяти лет на могильном комплексе у поселка Зеленый Яр также продемонстрировали его неоднозначность. Кроме общеизвестных находок мумифицированных объектов, ставших предметами многочисленных междисциплинарных исследований (Зеленый Яр…, 2005; Гусев Ал. В. и др ., 2014. С. 89–96; Slepchenko et al ., 2015. P. 974–980), для него характерна довольно отчетливая «элитарность» погребений, особенно для самых поздних могил, датированных временем около XIII в. ( Гусев Ал. В. , 2015. С. 291–293; 2017. С. 145–148).
Изучение поздних (XVI–XVIII вв.) городков в настоящее время является одним из приоритетных направлений для арктической и субарктической зон Западной Сибири. О. В. Кардаш, проведший раскопки на двух из них – Надымском городке и Полуйском мысовом городке – и монографически опубликовавший их ( Кардаш , 2013а; 2013б), совершенно справедливо отмечает, что эти исследования, во-первых, заполняют важную временную лакуну от эпохи позднего Средневековья до XVIII в., во-вторых, дают большую коллекцию артефактов из органических материалов, позволяющую соотнести современные аборигенные культуры региона с археологическими культурами древности ( Кардаш , 2013а. С. 5).
В начале 2000-х гг. были возобновлены раскопки первого русского города в Сибирском Заполярье – Мангазеи ( Визгалов, Пархимович , 2008). Широкомасштабные исследования проводились впервые после работ ААНИИ под руководством М. И. Белова ( Белов и др ., 1980; 1981). В результате было опубликовано несколько монографий ( Визгалов, Пархимович , 2008; 2017; Визгалов и др ., 2011). Новые раскопки носили комплексный, междисциплинарный характер: помимо археологических, широко использовались дендрохронологические и палеоэкологические методы исследований. Кроме того, были собраны и опубликованы документы в сборнике «Обдорский край и Мангазея в XVII в.» (2004).
Изучение Войкарского городка (городища Усть-Войкарского 1) ведется с 2003 г. по настоящее время ( Федорова , 2004. С. 11–17; Новиков и др ., 2015. С. 391–397). Дендрохронологические датировки, полученные по многочисленным образцам, охватывают период с XV по XIX в. н. э. На основе изучения древесины и построения дендрохронологической шкалы для городища М. А. Гурская делает вывод о том, что интенсивные строительные работы за время существования городка производились с периодичностью 30–50 лет ( Шиятов и др , 2005. С. 51). В настоящее время раскопки памятника еще далеки от завершения.
Таким образом, можно констатировать, что за период с начала 2000-х гг. по наши дни на территории Арктики и Субарктики Западной Сибири, во-первых, резко увеличилось количество обнаруженных и поставленных на государственный учет памятников археологии от эпохи камня до Нового времени; во-вторых, появилась серия публикаций, в том числе монографических, по исследованию части из этих памятников; в-третьих, все исследования с начала 2000-х гг. носили комплексный, междисциплинарный характер, в том числе были получены внушительные серии абсолютных дат. Не в последнюю очередь это связано с государственной поддержкой археологических изысканий в регионе.
Список литературы Исследования в Ямальской Арктике и Субарктике: 2000-е годы
- Археология Арктики. Вып. 4: Усть-Полуй: материалы и исследования: в 2 т./Ред. О. Н. Корочкова. Екатеринбург: Деловая пресса, 2017. 2 т. (280 + 232 с.)
- Белов М. И., Овсяников О. В., Старков В. Ф., 1980. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат. 164 с.
- Белов М. И., Овсяников О. В., Старков В. Ф., 1981. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. 2: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVIII вв. М.: Наука. 147 с.
- Брусницына А. Г., 2000. Современная источниковая база изучения позднего железного века полярной зоны Западной Сибири//НВЯН АО. Вып. 3: Археология и этнология: материалы науч.-исслед. конф. по итогам полевых исследований 1999 г. Салехард: Красный Север. С. 32-48.
- Брусницына А. Г., 2002. Нижнее Приобье в конце I-го тысячелетия н. э. (по материалам раскопок Питлярского городища в 2001 г.)//НВЯН АО. Вып. 11: Обдория: история, культура, современность. Салехард. С. 14-18.
- Васильев Е. А., 2000. Поселение Вары-Хадыта II и проблемы первобытной археологии Ямала//НВЯН АО. Вып. 3: Археология и этнология: материалы науч.-исслед. конф. по итогам полевых исследований 1999 г. Салехард: Красный Север. С. 24-31.
- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., 2008. Мангазея. Новые археологические исследования. Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан. 296 с.
- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., 2017. Мангазея: усадьба заполярного города. Нефтеюганск; Екатеринбург: Караван. 360 с.
- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., Курбатов А. В., 2011. Мангазея. Кожаные изделия (материалы 2001-2007 гг.). Екатеринбург: АМБ. 216 с.
- Гусев Ал. В., 2015. Погребальный обряд средневекового населения севера Западной Сибири (по материалам могильников в пос. Зеленый Яр)//IV Северный археологический конгресс: материалы. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Альфа Принт. С. 291-293.
- Гусев Ал. В., 2017. Некрополи Зеленого Яра (IX-X, XIII вв. н. э.)//I Международная конференция «Археология Арктики» (19-22 ноября 2017 г., Салехард): тез. докл. Екатеринбург. С. 145-148.
- Гусев Ал. В., Ражев Д. И., Слепченко С. М., Пушкарев А. А., Водясов Е. В., Вавулин М. В., 2014. Археологический комплекс Зеленый Яр: новые технологии полевых исследований//Уральский исторический вестник. № 2 (43). Екатеринбург: УрО РАН. С. 89-96.
- Гусев Ан В., Федорова Н. В., 2017. Морфология древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй//АА. Вып. 4: Усть-Полуй: материалы и исследования. Т. 1/Ред. О. Н. Корочкова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 19-64.
- Гусев Ан. В., 2017. Коллекция изделий из кости и рога по материалам раскопок 1993-1995, 2006-2015 гг.//АА. Вып. 4: Усть-Полуй: материалы и исследования. Т. 2/Ред. О. Н. Корочкова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 4-103.
- Гусев Ан. В., Плеханов А. В., 2016. Археологическое обследование в районе оз. Парисенто (п-ов Гыданский)//НВЯН АО. Вып. № 3 (92): Обдория: история, культура, современность. Салехард. С. 22-24.
- Гусев Ан. В., Плеханов А. В., Федорова Н. В., 2016. Оленеводство на Севере Западной Сибири: ранний железный век -средневековье//АА. Вып. 3. Калининград. С. 228-239.
- Зеленый Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье/Отв. ред. Н. В. Федорова. Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. 368 с.
- Зольников И. Д., Выборнов А. В., Картозия А. А., Постнов А. В., Рыбалко А. Г., 2018. Рельеф и строение четвертичных отложений Нижней Оби в связи с перспективами поиска палеолитических объектов//АА. Вып. 5. Салехард. С. 30-38.
- История Ямала. Т. 1: Ямал традиционный. Кн. 1: Древние культуры и коренные народы. Екатеринбург: Баско, 2010. 416 с.
- Кардаш О. В., 2013а. Надымский городок князей Большой Карачеи. Екатеринбург; Салехард: Магеллан. 360 с.
- Кардаш О. В., 2013б. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. Екатеринбург; Салехард: Магеллан. 380 с.
- Кардаш О. В., Гайдакова З. Г., 2017. Бухта Находка 2: первые результаты археологического изучения грунтового VI-XIII веков на полуострове Ямал//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XXIII. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 331-335.
- Косинская Л. Л., 2000. Археологические памятники бассейна р. Пур (итоги исследований 1990-1998 годов)//НВЯН АО. Вып. 3: Археология и этнология: материалы науч.-исслед. конф. по итогам полевых исследований 1999 г. Салехард: Красный Север. С. 13-23.
- Косинская Л. Л., 2017. Комплекс неолитических памятников в урочище Увыр-пай//I Международная конференция «Археология Арктики» (19-22 ноября 2017 г., Салехард): тез. докл. Екатеринбург. С. 146-147.
- Косинская Л. Л., Федорова Н. В., 1994. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. Екатеринбург: УрГУ. 113 с.
- Косинцев П. А., Бачура О. П., 2017. Фауна млекопитающих севера Западной Сибири в позднем плейстоцене и голоцене//I Международная конференция «Археология Арктики» (19-22 ноября 2017 г., Салехард): тез. докл. Екатеринбург. С. 11.
- Мошинская В. И., 1965. Археологические памятники Севера Западной Сибири. Москва: Наука. 87 с. (САИ; вып. Д3-8.)
- Новиков А. В., Гаркуша Ю. Н., Новикова О. И., Кениг А. В., Мороз М. В., 2015. Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок): продолжение исследований в 2015 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XXI. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 365-369.
- Обдорский край и Мангазея в XVII в.: сб. документов/Сост.: Е. В. Вершинин, Г. П. Визгалов. Екатеринбург: Тезис, 2004. 200 с.
- Панова Н. К. Янковска В., 2008. Отчет «Результаты споро-пыльцевого анализа памятника Усть-Полуй и отложений в окрестностях г. Салехарда»//НВЯН АО. Вып. 9 (61): Усть-Полуй -древнее святилище на Полярном круге. Салехард: Красный Север. С. 55-64.
- Плеханов А. В., 2014. Заселение ямальской тундры в эпоху средневековья//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. III/Отв. ред. А. Г. Ситдиков. Казань: Отечество. С. 352-354.
- Плеханов А. В., 2016. Новые исследования археологического памятника Юр-Яха III//НВЯН АО. Вып. № 3 (92): Обдория: история, культура, современность. Салехард. С. 18-21.
- Погодин А. А., 2000. К проблеме первоначального заселения севера Западной Сибири//Древности Ямала. Вып. 1 Екатеринбург; Салехард: УрО РАН. С. 69-70.
- Ткачев А. А., 2017. Археологические исследования в низовьях р. Таз//I Международная конференция «Археология Арктики» (19-22 ноября 2017 г., Салехард): тез. докл. Екатеринбург. С. 150-152.
- Тупахина О. С., Тупахин Д. С., 2018. Поселение эпохи энеолита Горный Самотнел-1: материалы и исследования. Омск: Омскбланкиздат. 149 с.
- Федорова Н. В., 2004. Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок)//Проблемы межэтнического взаимодействия в Сибири. Вып. 2. Новосибирск: АртИнфоДата. С. 106-108.
- Федорова Н. В., 2015. Северный широтный ход в XI-XV вв.: постановка проблемы//Уральский исторический вестник. № 2 (47). Екатеринбург: ИИА УрО РАН. С. 56-66.
- Федорова Н. В., 2016. История археологического изучения Ямальской Арктики в XX -XXI вв.//Уральский исторический вестник. № 4 (53). Екатеринбург: ИИА УрО РАН. С. 44-52
- Федорова Н. В., 2017. Зооморфный код Усть-Полуя//АА. Вып. 4: Усть-Полуй: материалы и исследования. Т. 2/Ред. О. Н. Корочкова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 104-126.
- Хлобыстин Л. П., 1990. 200 лет арктической археологии//КСИА. Вып. 200. С. 3-8.
- Шиятов С. Г., Хантемиров Р. М., Горячев В. М., Агафонов Л. И., Гурская М. А., 2005. Дендрохронологические датировки археологических и этнографических памятников Западной Сибири//Археология и естественно-научные методы/Сост.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С. 43-57.
- Slepchenko S. M., Ivanov S. N., Gusev A. V., Svyatova E. O., 2015. Opisthorchiasis in infant remains from the medieval Zeleniy Yar burial ground of XII-XIII centuries AD//Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 110. No. 8. P. 974-980.