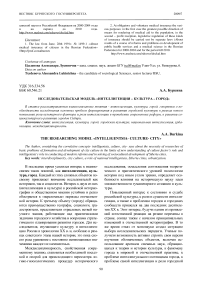Исследовательская модель "интеллигенция - культура - город"
Автор: Буркина Анна Антоновна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются взаимосвязанные понятия - интеллигенция, культура, город, говорится о необходимости исследования основных проблем формирования и развития городской культуры в рамках нового понимания роли культурного фактора и роли интеллигенции в проведении современных реформ, в решении социокультурного развития городов Сибири.
Интеллигенция, культура, город, городская культура, национальная интеллигенция, урбанизация, междисциплинарность
Короткий адрес: https://sciup.org/148179021
IDR: 148179021 | УДК: 316.334.56
Текст научной статьи Исследовательская модель "интеллигенция - культура - город"
цинской науки в Российской Федерации на 2000-2004 годы и на период до 2010 года.
В последнее время усилился интерес к взаимосвязям таких понятий, как интеллигенция , куль тура , город. Каждый из этих сложных объектов по-своему привлекает внимание исследователей как историков, так и социологов. Интерес к двум из них (интеллигенция и культура) в российской историографии и общественном мнении устойчив и резко обостряется в «переломные» периоды отечественной истории. К третьему объекту (городу) обращаются преимущественно географы, социологи, градостроители, представители отраслевых ветвей научного знания, работающие над практическими задачами городского хозяйства и вопросами стратегического планирования развития городов. Для исследователя, изучающего культуру и интеллигенцию России в хронологии XX в. и, особенно в рамках советского этапа нашей истории, это пока своего рода уравнение с постоянно меняющимися значениями каждого из неизвестных.
Междисциплинарность, свойственная современному знанию, становится необходимой посылкой и опорой для происходящего пересмотра логико-гносеологических процедур исторического исследования, осмысления соотношения теоретического и прагматического уровней гносеологии истории под иным углом зрения, определяет особенности влияния на историческую науку идеи множественности гуманитарного сознания и культуры.
Повышенный интерес к состоянию и судьбе российской культуры, к роли и сущности интеллигенции, а также к проблемам городов и городских сообществ пришелся на два последних десятилетия XX в. Этот интерес, будучи одним из проявлений естественной реакции на резкие перемены в стране, совпал также с началом принципиальных изменений в отечественной историографии. В то же время отказ от мононауки создал ситуацию выбора исследовательских парадигм. Ученые получили возможность активно строить свои версии изучения обозначенных объектов, включая использование арсенала смежных наук, обращающихся к теории и истории культуры, к феномену города в мировой и отечественной практике, к проблеме интеллектуального потенциала города, к проблеме самой интеллигенции и роли городской интеллигенции. «Мы живем в период возрастающего самосознания. Наша эпоха отличается от других не принципиально новой верой, а именно ростом самосознания и интереса к самим себе» (1). Этими словами открывается вторая часть эссе К. Манхейма о социологии культуры, посвященная проблеме интеллигенции, исследованию ее роли в прошлом и настоящем. Они обозначили смысловое ядро и движущий импульс напряженных интеллектуальных процессов, резко усилившихся в последние десятилетия XX века. В этот период усилиями индивидуального и коллективного интеллекта закладывались основы культуры нового столетия с главным принципом диалога культур, включая понимание культур прошлого как диалога по-разному актуализированных в современности их смыслов (2), менялся социокультурный контекст, питающий научное познание и специфику его отдельных сфер. Последствия разворачивавшихся перемен для исторического познания и исторической науки оказались особенно сложными и противоречивыми. В российской ситуации конца 1980-х – начала 1990-х гг. они воспринимались как «кризис» в самом негативном его значении. Историки болезненно отнеслись к возникшей проблеме утраты профессиональной идентичности. В то же время постепенно складывалось понимание необходимости формирования в общественном сознании принципиально иного образа исторической науки и ее социальной функции. Перед сообществом историков встала проблема самопознания, которая, по мнению Г.И. Зверевой, прежде была преимущественно предметом рассуждений философов и методологов исторической науки(3). Эта проблема должна была актуализироваться и для каждого исследователя. Претендуя на статус профессионала, он уже не мог избежать «обращения к себе». Это означало в первую очередь пересмотр теоретических и методологических оснований своей деятельности в определенном проблемном поле. Главным на пути к подлинной свободе научного творчества становилось напряженное «вдумывание... в эпистемологические основания своего исследования, творчески и критически осваивая при этом достижения гуманитарного знания своего времени» (4). Профессиональное сообщество историков конца XX века оказалось в ситуации, когда процесс поисков сопровождался продолжающейся трансформацией исторической науки, названной зарубежными авторами «историографической революцией», приведшей к появлению «новой исторической науки» (5). Специфика происходивших трансформаций подробно рассмотрена применительно к зарубежной историографии, в которой проблема всеобъемлющего кризиса, в том числе нарастающей фрагментации исторической науки и появления междисциплинарных областей, обсуждалась очень оживленно (6). Одно из важных наблюдений, сделанное Л.П. Репиной, относится к возникающему в сферах пересечения новых исторических дисциплин расширению возможностей комплектования исследовательского арсенала за счет разных «инструментов». Это дополнительно актуализирует проблему изучения сложных объектов и их взаимосвязей «на стыке» формирующихся субдисциплин.
В российских гуманитарных исследованиях, включая исторические, начинает осознаваться влияние мощных познавательных «поворотов» второй половины XX в. Как считает Г.И. Зверева, благодаря им происходит пересмотр теоретикометодологического инструментария и понятийного аппарата, усложняется понимание сущности междисциплинарных исследований, легитимизируется «многофокусный» подход к изучаемому предмету. Интерес к изучению взаимосвязей отечественной культуры, интеллигенции, урбанизации определился в основных чертах еще в начале 1980-х гг. в виде отхода со «столбовой дороги» на «боковую тропинку». Поиски на этой «тропинке» к середине 1980-х гг. добавили в интересующее нас проблемное поле вопрос о вкладе интеллигенции в культуру российского советского города XX века. В качестве темы для конкретноисторического исследования был предложен региональный вариант: «Интеллигенция городов-центров Западной Сибири 1920-х гг.». Уже тогда стали очевидными трудности выбранного ракурса, поскольку город XX века и его культура не вызывали особого интереса советских историков. Представители других общественных наук (философы и социологи) обращались к современному советскому городу, его культуре и образу жизни отдельных отрядов интеллигенции (7).
Советская историография интеллигенции с ее основательностью разработки социальной модели изучения российской и региональной интеллигенции 1920-х гг. и полученными результатами оказала существенное воздействие на направление наших дальнейших поисков и актуализацию заявленной темы. Лидерами в разработке социального подхода к изучению советской культуры и интеллигенции в сибирской историографии стали новосибирские ученые – В.Л. Соскин и его ученики. Уже в конце 1970-х гг. были получены важные конкретно-исторические результаты, представленные в специальном историографическом сборнике. При определении плацдарма для подготовки обобщающих трудов по истории культуры и интеллигенции советской Сибири приоритет был отдан вопросам формирования советской интел- лигенции в регионе. Было намечено написание обобщающих работ по всему периоду строительства социализма в рамках относительно «узких» тем для последующего комплексного исследования процесса формирования социалистической интеллигенции в Сибири. Первым шагом в реализации этого курса стала появившаяся в 1985 г. монография С.А. Красильникова и В.Л. Соскина (8), в которой была дана общая характеристика интеллигенции Сибири в 1917-1918 гг., на рубеже старой и новой эпохи.
Для российской исторической науки один из ярких примеров к рубежу XX-XXI вв. – стремление проблемной историографии интеллигенции превратиться в «интеллигентоведение». Этот процесс и его особенности в контексте меняющегося образа отраслевого научного знания, включая рефлексию и поиски современных интеллигенто-ведов (историков, философов, культурологов), заслуживает специального внимания.
В советское время, начиная с конца 1920-х гг., темпы урбанизации в России становятся необычайно высокими, в результате чего города формируются не так, как это бывает во время медленной урбанизации. Медленная урбанизация предполагает, что сельские жители переселяются в малые города, жители мелких городов – в более крупные, в результате чего происходит их постепенная адаптация к городской жизни. В советское время крупнейшие города пополнялись (или формировались) за счет мощных потоков бывших сельских жителей, в результате чего старая городская культура разрушалась (или не успевала возникнуть). С другой стороны, традиционная сельская культура была сильно подорвана процессом насильственной коллективизации и во время массовой миграции в города не воспроизводилась в городских условиях (как это было в традиционных «восточных» городах). Кроме того, советские административные центры, как правило, формировались в старой части города, поэтому разделения на старую «восточную» и новую «западную», как в городах Азии и Африки, не происходило. На рубеже 1960-1970 гг. с целью приостановки миграции из села в город была проведена государственная кампания по укрупнению сельских населенных пунктов. Население малых деревень было переселено в крупные села. Однако эта кампания вызвала эффект противоположный ожидаемому, т. к. в ее результате отток населения из села в город не ослаб, а усилился. В конечном итоге в большинстве российских городов сформировалась весьма своеобразная субкультура, отличающаяся как от традиционной сельской, так и от городской культуры западного типа.
Урбанизация – многогранный процесс, характеризующийся ростом, развитием и повышением роли городов, увеличением доли городского населения и постепенным распространением городского образа жизни на все общество. Этот двуединый процесс, касающийся влияния как города на село, так и наоборот, в полной мере коснулся и бурят. Однако, если в предыдущие десятилетия, скорее, доминировало первое направление этнического процесса – ассимиляция в городском сообществе и соответствующая утрата традиционных социокультурных ценностей, то сейчас, вследствие новых социальных условий, происходит адаптация – воспринимаются ценности городской культуры и в то же время сохраняется этническая культура. На наш взгляд, очень интересно проследить с позиции предложенной исследовательской модели «Интеллигенция – Культура – Город», какую роль в формировании городской культуры, в сохранении этнической культуры играет национальная интеллигенция.
Современная национальная интеллигенция, будучи чрезвычайно сложным образованием, обладающим широким спектром возможностей, в постиндустриальном полиэтническом обществе, призвана выполнять особые этноконсолидирующие функции, а именно: формировать этническое сознание и сохранить свидетельство культурнодуховной самобытности – национальный язык. Подъем национального самосознания способен усилить интерес к духовной культуре титульных народов. Роль интеллигенции как носителя духовных ценностей объясняет высокий уровень ее участия в процессе формирования городской культуры титульных наций, их традиционных ценностей.
К традиционным социокультурным ценностям относятся устойчивые социально значимые представления, убеждения, нормы, которые передаются из поколения в поколение: язык, религия, обряды, устное народное творчество и т.д.
На эмпирическом уровне давно уже сложились представления о западном и восточном типах городской культуры (и соответственно городов), как о весьма различных «культурно-исторических типах». Причем это различие проявляется как во внешних признаках (архитектура, планировка, жилище), так и внутренних (образ жизни городского населения, менталитет и т.п.). Однако проблема взаимоотношения этих культурноисторических типов как на макро, так и на микро уровнях изучена весьма слабо [9]. Процесс осмысления западноевропейской культурой сложного и многослойного социально-культурного комплекса, традиционно определяемого как Восток (в отличие от Запада), насчитывает уже двухтысячелетнюю историю. В Древней Греции разграничение
Востока и Запада стало формой обозначения противоположности «цивилизованности» и «дикости». Позднее в европейской науке сложилась точка зрения признания равенства (в определенном смысле) Востока с Западом.
Что касается традиций, обычаев, социокультурных ценностей, то за эти годы многое сделано для их возрождения. Религия остается носителем духовности этноса. Не единственным, но одним из наиболее важных. Происходит расширение религиозной сферы, особенно за счет молодежи. По некоторым сведениям, более половины бурят дают положительную оценку влиянию религии на их повседневную жизнь.
Проблема Запад-Восток в отношении формирования и развития городской культуры Сибири находит свое отражение и в вопросе непосредственных культурных контактов с Западной Европой и их влиянии на этот процесс. Первоначально эти контакты заключались в использовании не только западного опыта и образцов, но и военнопленных и вольнонаемных шведов, немцев и др. для строительства крепостей и городов. Затем – в развитии торгово-экономических и культурных контактов со странами Западной Европы. Эти связи особенно усилились в самом конце ХIХ – начале ХХ в. после завершения строительства Великой сибирской железной дороги. Во всех крупных сибирских городах в эти годы возникают многочисленные конторы и представительства западноевропейских фирм (немецких, датских, голландских и др.). Многие сибирские города участвуют в зарубежных международных выставках. Иностранные фирмы, напротив, выставляют свои экспонаты на сибирских выставках.
Роль Запада в формировании социокультурного облика городов Сибири изучена в этом смысле весьма слабо. Однако эта тема привлекает все большее внимание со стороны исследователей в последние годы. В Омске состоялись две научные конференции – Всероссийская «Немцы Сибири: история и культура» (1993 г.) и Международная «Немцы Сибири: история и современность» (1996 г.). Активно разрабатывают эту тему сотрудники Омского государственного историкокраеведческого музея под руководством П.П. Ви-бе. Однако в данном случае проблема роли «западного компонента» в формирования городской культуры Сибири еще, к сожалению, не выделились в объект самостоятельного научного изучения. Проблема взаимоотношения культур «Запад-Восток» в городской среде нашла свое отражение и закрепление в топонимических системах. Сложный синтетический характер изучаемого объекта (культура города) не поддается достаточно полному описанию и исследованию с позиций какой- либо отдельно взятой науки, теории или концепции. Поэтому его изучение требует выработки комплексного междисциплинарного подхода. Целостной теории данного уровня в настоящее время пока еще не существует. В связи с этим, современная наука преодолевает отмеченные трудности путем самостоятельного анализа различных подсистем объекта с использованием уже отработанных моделей по отношению к этим подобъектам.
Современный период развития России поставил перед обществом целый ряд сложных проблем политического, экономического и социального порядка. Но, думается, данные проблемы будут неизбежно воспроизводиться во все увеличивающемся масштабе без создания прочной культурной основы современным реформам. Именно духовные ценности, опирающиеся на весь культурный опыт, выработанный нашим народом, могут стать базой для выработки программ общественного действия и выхода из кризиса, в котором оказалась страна. Во время великого экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х гг., потрясшего Западную Европу и Америку, наш великий соотечественник Николай Рерих в своей работе «Красный крест культуры» писал в 1932 г. о том, что «уже давно народная мудрость сказала: Деньги потеряны – ничего не потеряно, но мужество потеряно – все потеряно. Сейчас приходится вспомнить об этой мудрой пословице, ибо о кризисе стало принято говорить: и пострадавшие и почему-то мало пострадавшие стали одинаково ссылаться на кризис, одинаково подрезая все инициативы, творческие устремления. Особенно ужасно слышать, когда отягощенные кризисом люди, и не очень плохие сами по себе, начинают говорить, что сейчас не время даже помышлять о культуре».
Современное развитие крупных и малых городов Сибири, процессы урбанизации нашей жизни в целом повышают роль социального познания этих процессов в любой самой, что ни на есть практической деятельности, а тем более в деятельности как федеральных органов власти, так областной и городской Администраций. К сожалению, это многие из управленцев и политиков не понимают привязанности социальных и политических процессов к культурному ландшафту городов России и сплошь и рядом пытаются решать разрывающие страну проблемы и конфликты помимо и иногда даже вопреки реально действующим механизмам урбанизации и развития городской культуры. Поэтому, все эти моменты требуют со стороны ученых тщательного и активного изучения последствий урбанизации и их влияния на изменения городской культуры с целью выработки основ общепринятых моделей развития российского общества. Культура должна стать одной из главных основ модернизации российского общества. Без учета этого важнейшего фактора ожидать экономического чуда, долговременной политической стабилизации, устойчивой сбалансированности межнациональных отношений просто не приходится. Однако, к сожалению, приходится отметить, что, несмотря на свою важность, за весь послевоенный период в стране не было создано сколько-нибудь крупной научной организации, специально занимающейся проблемами изучения городов в современных условиях урбанизации, когда в них стало проживать большая часть населения страны. И здесь уместно вспомнить зарубежный опыт. Американцы и западноевропейцы в условиях бурной урбанизации в свое время столкнулись с целым рядом проблем в развитии городов, которые зачастую характеризовались как кризис, и именно это подтолкнуло как политиков, так и ученых обратить на них более пристальное внимание. Специалистам известно, что американское так называемое экологическое направление социологии кристаллизовалось на проблемах изучения крупнейшего города США – Чикаго, что в конечном итоге не только привело к созданию знаменитой Чикагской школы, но и дало сильнейший импульс для развития многих научных дисциплин связанных с изучением города и городской среды. И сегодня в Соединенных Штатах и Западной Европе действует целый ряд университетских центров и программ, занимающихся изучением проблем развития крупных городов
Таким образом, необходимость исследования основных проблем формирования и развития городской культуры в рамках предложенной модели в современных условиях связана с поворотом к новому пониманию роли культурного фактора и роли интеллигенции в проведении современных реформ непосредственно с потребностями сегодняшнего дня: необходимостью разработки новых научных подходов к созданию программы социокультурного развития крупнейшего региона России – Сибири. Изучение и решение этих проблем силами историков, социологов, культурологов, архитекторов и практических работников в области культуры будет способствовать не только дальнейшему развитию науки, но и интеграции сил ученых с практическими работниками в сфере культуры.