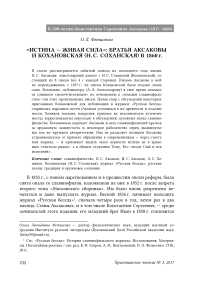«Истина - живая сила»: братья Аксаковы и Кохановская (Н.С. Соханская) в 1860 г
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 200-летию Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860)
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается забытый эпизод из последнего года жизни К. С. Аксакова: эпистолярный диалог с Н. С. Соханской (Кохановской), со- стоящий из 8 писем (по 4 с каждой стороны). Письма Аксакова к ней не переиздавались с 1897 г., из писем Кохановской было издано лишь одно. Возможно, публикатору (А. А. Александрову) в свое время показал- ся слишком «непочтительным» по отношению к «вождям славянофиль- ства» тон этих пропущенных писем. Начав спор с обсуждения некоторых присланных Кохановской для публикации в журнале «Русская беседа» старинных народных песен (Аксаков усомнился в их древности и подлин- ности, Хомяков позднее, напротив, признал их несомненную аутентич- ность), корреспонденты переходят к обсуждению духовных начал славяно- фильства. Кохановская упрекает Аксакова и весь славянофильский кружок за кружковую замкнутость и некоторое раболепство перед выдвинуты- ми тем же кружком авторитетами. Она не разделяет позиции Аксакова, устраняющегося от прямого обращения к современникам - через газету или журнал, - и призывает видеть залог верности истине не в хране- нии «чистоты рядов», а в общем служении Тому, Кто «везде Сый и вся исполняй».
Славянофильство, к. с. аксаков, и. с. аксаков, а. с. хомяков, кохановская (н. с. соханская), журнал "русская беседа", русские песни, традиция и кружковое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/140190308
IDR: 140190308
Текст научной статьи «Истина - живая сила»: братья Аксаковы и Кохановская (Н.С. Соханская) в 1860 г
неофициальным редактором журнала и значительно обновляет круг его сотрудников.
Между братьями не было полного единодушия, и в отношении к журналистской деятельности у них тоже существовали разногласия: Иван ратовал за бóльшую связь с современностью и ставил в пример журналы, в которых «слышится направление новое, требование просвещения, жизни, простора»2, именно он настоял на том, чтобы увеличить частоту выхода журнальных книжек. Константин, напротив, не одобрял саму идею выступлений в периодике, его идеал — солидные научные сборники3, подобные тем, что они выпустили в конце 1840-х — начале 1850-х гг. Но весьма объемные и серьезные по содержанию выпуски «Русской беседы» фактически являлись именно цельно выстроенными сборниками, а не случайным набором поступивших в редакцию вещей.
О славянофилах говорили, что это тесный круг не просто единомышленников, но родных и друзей, что все они могут разместиться на одном диване. В этот круг было не просто войти. Так, не стал в нем своим Т. И. Филиппов (первый редактор «Русской беседы»), хотя и был рекомендован самим И. В. Киреевским4. И конечно, «борьба за чистоту рядов» особенно усиливалась в связи с обострением полемики с западническим направлением. Еще в 1840-х гг., отвечая на саркастические выпады Белинского, москвичам нужно было показать свое отмежевание от тех, чьи nomina sunt odiosa (точнее сказать — были сделаны одиоз-ными)5. Яркий тому пример — известное стихотворение К. Аксакова
«Союзникам» (1844), поэтическое отречение от Н. М. Языкова как автора стихотворения «Не нашим», сильно повредившего славянофильскому движению в глазах общественности:
На битвы восходя святые, Да будем чисты меж собой! Вы прочь, союзники гнилые, А вы, противники, — на бой!6
Страх за «чистоту знамени» отзовется и в том эпистолярном диалоге, о котором пойдет речь в нашей статье.
У журнала «Русская беседа» изначально не было недостатка в философских, исторических, этнографических трудах, причем в журнале стали охотно печататься братья-славяне. Здесь появлялись литературно-критические статьи, печатались стихотворения лучших поэтов того времени, но давал себя знать один пробел — недоставало художественной прозы. И тут дело обстояло сложно: ведь в литературе тех лет господствовала «натуральная школа», славянофилам чуждая. Еще был жив и продолжал писать патриарх семьи Аксаковых — Сергей Тимофеевич, и «Русская беседа» поместила несколько его произведений. Но где же молодая современность?
Тем больше была радость встречи с мощным голосом, который, казалось, создан для того, чтобы влиться в славянофильский «лик». Хомяков и Гиляров-Платонов, Аксаковы, Кошелёвы и Елагины были единодушны: наконец они встречают творения «прекрасной, глубоко-художественной и сочувственной души»7, обретают писателя, точнее — писательницу, которая вопреки всем веяниям эпохи несет в своих произведениях то, чего они от литературы и ждали («положительное отношение к жизни»8 и конкретнее — к «заветам русской старины»), и не боится показаться «тенденциозной». Константин Аксаков не случайно акцентирует в статье о новейшем произведении этой «сочувственной души» определение «русская повесть»9, а его брат в своем первом письме к автору повести поясняет: «Ваша повесть названа <…> „Русскою повестью“; а этой похвалы не удостоивался от нас ни один писатель, стряпающий повести в русском духе, ни Григорович, ни даже Тургенев. Если б Вы имели понятие о Р<усской> Беседе и о строгости отношения ее сотрудников к изящным произведениям русской литературы, Вы бы знали — какую цену имеют эти слова под пером так называемых Славянофилов»10.
Интерес (и славянофилов, и западников, и вообще широкого круга читателей) к новому явлению «большой литературы» подогревался еще и тем, что о писательнице никто ничего не знал — она выступала под псевдонимом, в котором даже не было инициалов, только украинская или польская фамилия. А владение словом, мастерское построение фабулы, житейская мудрость и какое-то необъяснимое, несколько отрешенное спокойствие в ее произведениях были таковы, что некоторые критики даже сомневались: да женщина ли перед ними? «В 1858 году в нашей литературе появился новый чрезвычайно-замечательный талант <…>. Мы говорим о г-же Кохановской и ее повести „После обеда в гостях“. Судя по тонкому анализу женского сердца, замечаемому в этом произведении, видишь, что автор его действительно дама; но необыкновенная наблюдательность над жизнью людей простого класса, необыкновенная верность, типичность языка действующих лиц, художественное спокойствие рассказа заставляют в этом сомневаться»11.
Никакой литературной мистификации («Я вам секрет по-дружески открою: / Поэт — мужчина, даже с бородою»), однако, здесь не было. За псевдонимом «Кохановская» скрылась Надежда Степановна Сохан-ская (1823–1884), дворянка из обедневшей семьи, всё владение которой состояло в старом и тесном домике и саде при нем — хуторе Макаровка, расположенном в глухой части Изюмского уезда Харьковской губернии; выпускница Харьковского института благородных девиц, до 1862 г. не выезжавшая никуда, дальше Курской губернии, где родилась и где жила одна из ее бабушек. Сейчас имя этой писательницы забыто и только понемногу начинает возвращаться к нам12, а тогда ее звезда светила ярко: Л. Толстой признавал в Кохановской «размах и смелость»13, Тургенева одна из ее повестей «тронула… до слез»14, М. Н. Катков (в те годы один из издателей Кохановской) писал ей: «Или я ничего не понимаю, или вашему таланту предстоит широкая будущность»15, П. А. Плетнев, друг Пушкина и ректор Санкт-Петербургского университета, избранный Соханской еще в начале пути в литературные наставники, прочитав ее автобиографию, не уступающую лучшим образцам исповедальной прозы, заклинал «степную барышню»16 оставаться собой и утверждал, что скорее ему нужно многому поучиться у своей молодой почитательницы17.
Позднее ей предложат учить словесности младших детей Александра II, но она откажется покинуть свою степную глушь. А. Ф. Вельтман будет с восхищением писать: «„.вы сбросили с Русского Слова чужеземную литературную ливрею и заговорили родовым языком. Кто любит его, тот поймет ваш смелый подвиг и заслугу»18. Достоевский, далеко не всё в творчестве Кохановской принимавший19, отметит ее «настоящий, не выдуманный» «пафос»20, а историк П. И. Бартенев в некрологе напомнит о человеческих качествах писательницы-христианки: «…всякому, кто не только знал ее, но лишь встречал, должен был врезаться в память и запечатлеться замечательно-светлый образ ее, всегда бодрой, энергичной, полной сил душевных и не признававшей слов: хандра, апатия, усталость жизни. Много нужно иметь, чтобы так сильно и прочно привязывать к себе людей. Ни лукавства, ни хитрости, ни компромиссов не знала ее душа, чистая, как стекло. Она была всегда одинакова, слово ее было верно, она неуклонно шла путем долга, чести и совести глубоко строгой к самой себе. <…> она так высоко стояла в нравственном смысле величия своего духовного, внутреннего я , что всякий, кто ее близко знал, чувствует потерю невозвратную, утрату незаменимую. Каждая строчка ее письма, где она надежно и мягко протягивает свою крепкую руку нравственной помощи, будет <…> храниться всяким, как святыня: так много давали и делали живые слова ее замечательно-отзывчивой души. Слова о зерне пшеничном „аще не умрет, не принесет многа плода“ сказаны об таких, как она»21.
Еще через десятилетие библиограф С. И. Пономарев, разбиравший по просьбе наследников обширный архив Кохановской (к сожалению, позднее утраченный по вине этих самых наследников), выделит такие «существенные свойства» писательницы: «…теплота чувства, религиозность, любовь к родной старине и горячая отзывчивость на важнейшие обстоятельства текущей жизни»22. Но, конечно, именно эти свойства далеко не всем приходились по душе, и уже в конце столетия украинский беллетрист справедливо замечает в письме к другу-писателю: «Кохановская — огромное дарованье, замятое и оклеветанное либеральной критикой»23.
Пока же, в 1850-е гг., даже и либеральная критика (причем такие разные авторы, как П. В. Анненков, М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. И. Писарев) расположена к самобытной и загадочной (никто ее не видел, никто ничего не может о ней сказать) «литераторке». Это уже после тесного сближения писательницы со славянофилами критика переменит тон («Отжившие идеалы» — характерное название одной из рецензий24). Даже Аполлон Григорьев «с сокрушением сердца» будет «готов оплакивать подчинение этого блестящего таланта славянофильским теори-ям…»25. На самом же деле никакого подчинения теориям не было, потому что Соханская еще до знакомства с трудами славянофилов и до личных с ними контактов придерживалась сходных воззрений26, а когда впервые открыла «Русскую беседу»27, испытала «задушевное счастие», как она уже впоследствии рассказала И. Аксакову: «…увидела, что мои основные уединенные мысли так во многом сходны с вашими»28.
Что же касается славянофилов, им пришлось потрудиться, чтобы залучить в свой круг автора «Гайки» и «После обеда в гостях». Cначала даже не получалось отыскать ее адрес. Это взял на себя энергичный Иван Аксаков, которому пришлось прибегнуть к помощи своего харьковского знакомого, историка А. П. Рославского-Петровского. Первое письмо Ивана Сергеевича датировано 31 декабря 1858 г., основной мотив раннего периода переписки (а она будет длиться до самой смерти Соханской29) — усиленные заверения на тему «Вы — наша», порой звучащие почти как «Вы — наше всё». «Ваша повесть дохнула свежим, здоровым дыханием цельной русской жизни. В ней впервые является такое свободное положительное отношение к русской жизни, в противоположность отрицательному или искусственно-положительному, фальшивому <…>. „Семейная хроника“ и „После обеда в гостях“ начинают собой новую эпоху в литературе» (31 декабря 1858 г.); то же в письме от 7 апреля 1859 г., после появления следующей повести — «Из провинциальной галереи портретов»: «Я вижу в вас зарю нового отношения искусства к жизни»; 15 февраля 1859 г.: «…прежде я всё деликатничал, а теперь решительно прошу у вас повести для „Русской Беседы“ <…>. Вам следует быть в „Русской Беседе“ , никто вас так не оценил, как мы: вы наше давно искомое и желанное»; 28 апреля — 2 мая того же года: «Дадите или не дадите вы статью в Беседу — знайте, во всяком случае, что вы — наша, т. е. ваша деятельность имеет для нас большое значение, уже уяснена и определена нами (смейтесь, пожалуй) философски, исторически, филологически и проч.»30.
Повести Кохановской читались у Аксаковых вслух, им радовался Сергей Тимофеевич31. Незадолго до его кончины писательница успела поблагодарить его за теплые отзывы и присылку книг сердечным письмом. Переписку с хутором Макаровкой вел Иван Сергеевич, но когда он отправился в заграничное путешествие, то перепоручил эту корреспонденцию Константину. Кохановская к тому времени уже стала сотрудником «Русской беседы», только не как автор повестей (тогда она еще была связана обещаниями журналам, с которыми сотрудничала раньше), а как литературный критик32. Журнал славянофилов шел к своему концу33, — в 1860 г. вышло только две книги, — но именно для этих завершающих книг писательница готовила большой труд — статьи о старинных песнях, которые записала от своих матери и тетушки (собственно у нее получился синтез очерков, отличающихся глубиной наблюдений, и публикации самих песен34, среди которых были редчайшие, неизвестные даже видной плеяде фольклористов той эпохи).
25 ноября 1859 г. Аксаков сообщил Соханской, что журнал прекращается, но просил быть с изданием до конца: «Позвольте Вас убедительно просить — Ваши статьи о песнях не отдавать ни в какой другой журнал, а прислать их мне или брату, который хочет издать один из Сборни-ков»35. 5 декабря Кохановская отвечала: «С величайшим удовольствием. Мне самой было бы больно столько живого славянофильского интереса передать в чьи-нибудь чужие и, вдобавок еще, неприязненные руки! <…> Теперь я сделаю вот что: сколько есть написанной статьи, я вышлю ее вам <…> чтобы вы заранее ознакомились, чего вы можете ожидать от этих статей…»36
В письме от 1 января 1860 г. Иван Сергеевич напоминает о своем скором отъезде заграницу и вновь просит высылать материалы или брату Константину, или издателю «Беседы» А. И. Кошелёву37.
Аксаков-младший немного беспокоился насчет того, что же Коха-новская напишет о песнях. Дело в том, что к тому времени между ними успели выявиться существенные разногласия. Серьезные споры вызвала статья «Степной цветок на могилу Пушкина», программная для Коха-новской, понимающей писательство и особенно поэтическое творчество как христианское служение. По выражению современной исследовательницы, Аксакова «смущал откровенно иконописный облик поэта, который выходил из-под пера писательницы»38. Неприемлемым и странным для него были звучавшие в статье монархические мотивы39. Аксаков сразу оговорил необходимость редакционных примечаний. Всё это подробнейшим образом обсуждалось в письмах.
Вот почему он был так тревожно настроен зимой 1860 г., когда узнал, что первая статья о народных песнях уже прислана в Москву. «Я не знал, что получена статья от Кохановской. Кто ее читал? Хороша ли? Ее следовало бы непременно прочесть предварительно Константину. Дело идет о песнях, а тут она может сделать грубый промах в определении народности самой песни. Если Константин не читал, то пусть прочтет — непременно»40.
Перед нами занятнейший парадокс: Соханская живет в песенной культуре41, где сам быт пронизан песенным и сказочным словом42, а московские «книжники» (в данном случае К. Аксаков как магистр филологии) должны проверить ее на «истинную народность». И парадокс этот тем более странный, что сам Иван Сергеевич не далее как 7 апреля
1859 г. (однако, как видим, еще до чтения статьи о Пушкине) писал ей: «Я думаю — Вам даже странны наши толки и заботы о народности — Вы в ней пребываете, русская песнь у Вас в жилах течет, Вы совершенно хозяйничаете в этой среде…»43
2 февраля 1860 г. первая статья («Несколько русских песень») готова, Кохановская посылает ее К. Аксакову вместе с письмом. Оно опублико-вано44, изданы и ответы на него и на следующие четыре письма из Мака-ровки, но по каким-то соображениям издатели переписки (О. Г. Аксакова и А. А. Александров) не включили в публикацию три любопытнейших письма Соханской45. Таким образом одной из сторон диалога посмертно было, по сути, отказано в праве «самозащиты». А тут была именно самозащита: К. Аксаков оказался столь назидателен и суров в финальной части этого короткого диалога, что Кохановской пришлось всерьез обороняться.
Как же дело дошло до этого? Эпистолярная беседа началась очень мирно: с комплиментов аксаковским филологическим штудиям и обсуждения тонкостей грамматики и орфографии (например: можно ли использовать апострофы в случаях стяжания гласных, можно ли сохранить написание «песень» вместо «песен» и т. д.). Аксаков спешит ответить, еще не прочитав статью. Он «успел только взглянуть на некоторые превосходные песни»46. Письмо, однако, вышло очень большим, потому что Константин Сергеевич вскочил на любимого конька: припомнив случай, когда впервые собирался написать Соханской (возразить на одно из замечаний в ее письме к брату), он раскрывает перед собеседницей свое понимание авторитета и свободы 47, говорит о том, как развивалось славянофильство и как важно блюсти его чистоту. К этой теме нам еще нужно будет вернуться.
Перед тем как написать следующее письмо (с разбором статьи), Аксаков успел посоветоваться с Кошелевым и Хомяковым. Все трое решили исключить из статьи «одно место о плетке», потому что оно может быть не так понято публикой с «испорченным слухом»48. И, пока еще довольно мягко, Константин Сергеевич разъясняет: «…Вы взяли все песни, и древние, и новые, и чистые, цельные, и порченные с примесью, — и все их признали выражением народного духа, выражением равносильным, ибо Вы даже нигде не оговариваетесь»49. (Напомним: об этом и просил его брат — проверить, не напутала ли чего Кохановская в различении подлинно народного и привнесенного.) Поэтому, продолжает Аксаков, редакция и решила «выкинуть две песни»50.
Вокруг одной из этих песен («Я из рук, из ног кровать смощу…») и развернется дискуссия. Она все же будет напечатана51, потому что положение спасет Хомяков — снабдит текст подробным примечанием за подписью «А. Х.»52. В отличие от Аксакова он не отрицал подлинность и даже древность песни. Он даже усиленно настаивал на этой древности. По мнению философа, эта «странная… и уродливая во всех отношениях» песня представляет собой искаженную с течением времени мифическую повесть о происхождении мира53. Аксаков с этим объяснением не согласился, но песню оставить все же разрешил, о чем и сообщил Соханской 27 марта, отвечая на не дошедшее до нас письмо, в котором та защищала подлинность «уродливой песни», ставшей предметом спора. Одновременно он отвечал и на письмо от 4 марта, продолжившее спор о славянофильстве и славянофильском мировоззрении. Воздух становился предгрозовым: если, начиная переписку, собеседники сочлись заочным знакомством и воздали друг другу должные почести, то теперь Аксаков фактически отлучает Соханскую от славянофильства. Письмо было продумано, обильно правлено (сохранился его черновик), Аксаков, видимо, не сразу решился отправить его. «…В том-то и дело, что писал к Вам, как к старой знакомой. Я имел основание так думать <…>. И не то, впрочем, чтоб Вы не поняли смысла моих слов, нет, — а сами Вы стоите дальше, чем я думал <…>. Вам не нравится, как мы относимся к другим, не Славянофилам. — Но дело в том, что Славянофильство — не общество, не компания, не кружок даже. Славянофильство — идея; кто ближе к ней — тот ближе, кто дальше — тот дальше. <…> Нечистый союз, или еще, успех с помощью посторонней примеси — страшит нас. <…> я ошибся, сочтя Вас старою знакомою…»54
Впрочем, несмотря на эти резкие слова, Аксаков не указывает Сохан-ской: «Вот Бог, а вот порог!», а говорит почти примирительно: «…думаю, что мы с Вами во многом сочувствуем, и надеюсь, что есть возможность сочувствовать еще более»55.
К. Аксакову всегда был свойствен особый ригоризм. «…Никаких уступок! — Это всегда было и должно быть знаменем нашего направлени-я»56, — так наставлял он собратьев-славянофилов перед началом издания журнала. И вот теперь, чуть заподозрив в собеседнице приметы не полного единомышленника, он переходит в регистр весьма патетического обличения. Но и Кохановская «держит удар», уже достаточно закаленная в спорах с младшим Аксаковым, которого недавно (в письме от 5 декабря 1859 г.) уверяла, что «славянофилкою» она может быть, только сохраняя «право» своей «нравственно-личной свободы»57. Однако после письма-отлучения она по-женски пытается уладить дело: «Вы будто немножко на меня в гневе, что я не так поняла Вас, не поняла Вашего Славянофильства, и на этом основании разжаловали меня из старой знакомой в новую, отодвигаете куда-то вскрай от Ваших понятий… Но не зная, как близко Вы меня подводили к ним, я не могу судить, насколько Вы и отринули меня. <…> Достоинство и строгость Славянофильских начал оттого нимало не поколеблются, что где-то в уголке я немножко так или иначе думаю понимать их»58.
В письмах звучат и другие темы, которые мы вынуждены оставить за рамками статьи59. Тянется с пор все о той же песне — и в письме
Соханской от 26 апреля, и в ответе Аксакова от 13 мая. Это письмо оказалось последним. «…Мне что-то нездоровится»60, — обмолвится Аксаков. И мы помним, что 1860-й год — последний год его жизни, что вскоре он, некогда богатырь, теперь медленно угасающий в тоске по ушедшему из жизни «отесеньке», отправится на леченье и скончается на острове Занте.
До этого Соханская слегка намекнула в письме к Ивану Аксакову на свои пререкания с Константином Сергеевичем61 и получила такой ответ из Вены: «Я не понимаю хорошенько Ваших слов о переписке Вашей с братом моим Константином. <…> С братом моим знакомство для Вас будет гораздо любопытнее, чем со мной: это человек, никогда, ни разу не сомневавшийся в своих убеждениях, сжившийся с ними так цельно, что не отделить, ни предположить одного без другого нельзя; человек очень добрый и нежный по природе, но по принципам своим неумолимо-строгой и ревниво блюдущий чистоту начал. Он в этом отношении строже всех нас»62.
Еще не успев получить это письмо, Соханская 7 июня вновь писала К. Аксакову, спрашивая, присылать ли «боярские песни», и опять, и опять стараясь загладить резкость зимнего спора: «…мне было очень приятно заметить несколько в Вашем письме, что моя непроизвольная разно-мыслица с Вами насчет той песни (которая увы! и теперь не до конца уничтожилась), что эта разномыслица не отняла многого из нашего идеального знакомства…»63 Ответ на это письмо неизвестен.
Характерно, что Соханская слегка оправдывается только в «разно-мыслице» по поводу «той песни». Значит, другое инакомыслие она оставляет при себе. К этому другому предмету спора, значительно более важному, чем фольклористические и этнологические пререкания, мы наконец и обратимся.
Выше было сказано, что К. Аксаков начал эпистолярную беседу с Со-ханской с напоминания об одном эпизоде из ее переписки с братом Иваном. Это было как раз в период обсуждения статьи о Пушкине, в котором участвовал и Хомяков, и другие славянофилы. И вот, познакомившись через О. Ф. Кошелеву (жену издателя «Русской беседы», с которой к тому времени Соханская тоже переписывалась) с отзывом Хомякова, «макаровская отшельница» сообщает об этом младшему Аксакову и словно извиняется за то, что будет возражать непререкаемо авторитетному вождю славянофилов.
Вот об этом и припоминает К. Аксаков, желая объяснить Соханской ее неправоту: «Можно было бы подумать, что у нас Хомяков считается непогрешимым авторитетом, Папою. — Не знаю, кто дал Вам такие ложные понятия о Славянофильстве. — У нас нет авторитетов. Мудрено быть ближе, как мы с Хомяковым; редко можно быть и согласнее, как мы с ним <…>. Мудрено ценить более и ставить выше, чем я ценю и ставлю Хомякова, — и со всем тем я ни на волос не считаю его авторитетом; да и никто в нашем Славянофильском круге ни к нему и ни к кому так не относится; это нарушило бы свободу, а свобода — есть высшее благо, есть — всеблаго. <…> Авторитета быть не должно <…>. В деле Веры — нет авторитета; его нет для свободы духа. — Сам Христос для меня не авторитет: потому что Он для меня — истина»64.
На это у Соханской возражений нет, она видит здесь принцип, уже знакомый ей по работам самого Хомякова, и благодарит за наглядное объяснение — об искушении преп. Исаакия Печерского, вызванном тем, что, как было сказано Аксаковым, «он на Христа взглянул как на Начальника, как на Авторитет, а не как на Истину <…> послушался не рассуждая, отказался от свободы»65. Но другая часть письма ее неприятно поразила. Бегло очертя двадцатилетний путь славянофилов от встречавшего их «первые слова» «неистового грома хохота и ругательств» до «почти всеобщего уважения», Аксаков объясняет это тем, что «Славянофильство не сделало ни одной уступки», а главное — «тех неприметных уступок, которых никто другой уступками и не назовет». И вот то характерное место, которое потом отзовется в письме, лишающем Соханскую права быть «старой знакомой» (т. е. настоящей славянофилкой): «Мы никому не мешаем сочувствовать нам на половину, на четверть и еще менее; но уж и стой на своем месте, на законном отдалении, не подходи ближе того, как ты стоишь на самом деле. <…> Ошибочно и неверно нам сочувствуют на всех расстояниях, во всех партиях; но в средине нашей должна быть и, Бог даст, будет всегда хранима чистая, непорочная мысль истины, святыня духа. Какое счастие, что, говоря о духе, говоришь о духе русского народа, что, стоя за истину, стоишь за Русь. — Я всего более боюсь нечистого союза»66.
Соханская будет горячо возражать на этот пассаж, удивляясь звучащей в нем гордости, и еще на одно место — то, где Константин Сергеевич радовался, что у славянофилов «не было и нет журнальной деятельности» и что «Русская беседа» наконец «становится просто сборником», еще дальше уходя от и без того чуждых славянофилам «легкости и ры-ночности»67. Писательница совершенно иначе понимала и вечные вопросы, и то, что называется современной обстановкой. Впрочем, вместо цитирования или пересказа лучше будет просто познакомить читателя с ее неизданным письмом68.
Н. С. Соханская — К. С. Аксакову
4 марта, 1860
Макаровка
Уважаемый Константин Сергеевич! Вам угодно было причесться ко мне в старые знакомые, и я отвечать на это могу только тем, что я очень люблю старые знакомства и очень дорожу ими. Благодарю Вас, что Вы, как добрый старый знакомый вспомнили со мною старину Вашего Славянофильства и поделились мыслию об его новых положениях и отношениях. Напрасно Вы думаете, что это могут быть вещи не вовсе занимательные для меня — так нельзя думать по старому знакомству.
В таком сжатом очерке своих основ и духа, Славянофильство еще не представлялось мне, как я его увидела из Вашего письма. «Стойкость принципа — верность началу — строгость начала» — всё это очень строгие слова по силе славянофильского духа. Но разве Славянофилы только Стоики? Христианская истина, которую они думают так строго носить в себе, не тем ли самым отличается от всякой другой философской истины, что она мало того, что она истина, но она преисполнена чувства любви — она сама любовь, эта святая истина! Но неужели Славянофилы не любят — они, которые проповедывают любовь и братство с самыми отдаленными Славянскими племенами, — исполнены такого жаркого внимания и сочувствия к своему народу? А к своим наиближ-ним братьям, к своим соперникам на поприще проповеди исполнены они сочувствия? Да, конечно. «Мы никому не мешаем сочувствовать нам на половину, на четверть и еще менее; но уж и стой на своем месте, на законном отдалении, не подходя ближе того, как ты стоишь на самом деле. Ни в свой тесный круг, ни в свои действия ни тени сделки мы не допускаем». И не допускайте этой тени, но удалите аскетизм партии. Вместо того, чтобы радостно, по-русски приветствовать; распахнувшись душою, первые зазеленелые ростки того семени дорогого, которое, с таким трудом и опасной решимостию, Вы сами 20 лет назад положили в землю, — Вы что же говорите, мой старый многоуважаемый знакомый! Вы говорите: «опасная минута» — что Вы более всего боитесь «нечистого союза» и во избежание чего думаете еще более сомкнуться, сжаться, схорониться в один тесный, непроницаемый Славянофильский Кружок. Как это грустно! И для чего же? «Да будет всегда хранима чистая непорочная мысль истины, святыня духа»…. «Иже везде Сый и вся исполняяй», вот где тесный кружок хранилища святыни духа.
И далее Вы говорите: «мы не имели журнала. Какое это счастие!»… Какое несчастье! позвольте мне сказать. 20 лет носить в себе сознание животворной высокой истины, чувствовать себя определенным проповедником этой истины и не иметь голоса, не иметь слова для проповеди! Истина — живая сила, и если она била живым горячим ключом в вашем сердце, если она, как истина, не формула, а как христианская истина — чувство, болела сознанием лжи, царствующей вместо царства истины — если вы сами, или эта истина с вами, не были «Скупым Рыцарем», уходящим в подвал, чтобы незримо и неведомо ни от кого любоваться там своим неоценимым сокровищем, то — довольствоваться несколькими сборниками, какое грустное довольство! И теперь у вас нет ни журнала, ни газеты! И в какое время? Когда со всех сторон начинают пробиваться ростки вашего зерна; когда с<анкт>-петербургский профессор Русской Истории, в огромной аудитории, тесной от слушателей, говорит с кафедры, что эта история будит народ, народ! 69 его судьбы, его страдания, его жизнь — его песня, несмотря на все ее анахронизмы, поставится, при случае, выше и знаменательнее самого достоверного прославленного памятника… а у вас слишком десяток тысяч этих песень лежит неразобранным, захороненным!70 «Мы сбили, мы решили», могут с полным удовольствием сказать другие и взобраться на самую верхушку дерева и кушать там преспокойно каштаны; а вы, которые помогли им подняться туда, вы остаетесь внизу, и что же падает на вашу долю?.. Т. е. до того возмутительно, до того горько, что горечь чувствуется не только на сердце, а даже на языке! Вы, как философ, Константин Сергеевич, и если могу судить по старинному знакомству, — философ с довольно стоическим аскетическим направлением, вы можете довольствоваться сознанием того и другого; но нам, простым людям, таким, как я, с живым чувством женской преданности вашей философии и гордости ею в вашем лице Славянофилов, нам мало одного сознания71; а желалось бы чего-нибудь поживее, посущественнее… А между тем как я Вам благодарна за вашу беседу об Авторитете. Меня давно занимал вопрос, и я напрасно искала разрешить его: зачем это Господь говорит Апостолам: «Лучше, чтобы Я ушел от вас. Если я не уйду, то Дух Истины не прийдет к вам»72. Первое объяснение я встретила в брошюре Хомякова73 и была обрадована им как откровеньем свыше. А теперь Вы мне дали это объяснение так наглядно, так жизненно-применимо, что я точно приобрела какую-то осязаемую вещь! И тоже искушение Исаакия Печерского, в каком разумном свете вы мне показали его! А до тех пор оно шевелило во мне — вопрос: да чем же он виноват? Послушался не рассуждая. И как хорошо этому отвечает — помните, об этом говорилось как-то в Беседе — что, кажется, к Антонию Великому собрались старцы, чтобы решить: какая из христианских добродетелей самая важная? Они обсуждали целую ночь и разошлись не решивши — и, кажется, Антоний сказал: что самое главное есть рассуждение.
Но, извините, Константин Сергеевич! если мы с Вами немножко знакомы, то Вы знаете, что я совершенно не умею писать коротких писем. Они у меня выходят до того длинны, что становятся наказанием не только того, кто получает их, но даже самой меня, которая пишу их. Я знаю, что у Вас дела пропасть и разнообразного, как сами Вы говорите. Вы печатаете Грамматику, пишете возражение — на что?74 Напрасно я старалась разобрать Ваше писанье — туда и сюда поворачивала его — нет! Вижу, что это что-то касающееся народа… Как смеют учить его — что ли? Но почему же не поучить доброго доброму? Не я, конечно, стану возражать вам, что крестьянин не высоко стоит по своему созерцанию, по своему воззрению; но чтобы именно вот это-то свое высокое созерцание и воззрение он внес поболее во весь строй своей жизни, чтобы он получил самое главное: рассуждение — для этого надобно научиться, много и хорошо научиться нашему крестьянину. И какое великое спасибо людям, которые с уменьем и заботой принимаются за это великое дело! Вы правы, что настоящего Великоросса в его полной родной среде я не видала; но я не думаю быть в проигрыше, зная и видя Малоросса — этого величаво-спокойного, полного достоинства человека, рассуждающего, так поэтически чувствующего… Но я чувствую, что на этом пункте мы едва ли с Вами сойдемся — несмотря на наше старое знакомство, что однако же не помешает мне крепко пожать Вашу руку, если мы с вами когда-нибудь свидимся.
Н . Соханская
А что делает Иван Сергеевич за границею — чем он занят? И где он собственно теперь?