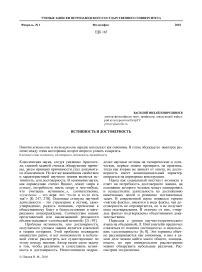Истинность и достоверность
Автор: Пивоев Василий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (106), 2010 года.
Бесплатный доступ
Истинность, достоверность, причинность, проверяемость
Короткий адрес: https://sciup.org/14749666
IDR: 14749666
Текст статьи Истинность и достоверность
Классическая наука, следуя указанию Аристотеля, главной задачей считала обнаружение причины, затем принцип причинности стал дополняться объяснением. Но все же важнейшим свойством и характеристикой научного знания является истинность, или достоверность. В основании науки, как справедливо считал Ницше, лежит «вера в истину , потребность иметь опору в чем-нибудь, что считаешь истинным...», соответственно, « суждение – это вера: что “то-то и то-то есть так”» [8; 247, 278]. Основные стимулы научной деятельности – это стремление к истине, самоутверждение, радость познания, стремление к общественному благу и благосостоянию и материальное вознаграждение. Соответствие наших представлений или высказываний реальности обычно называют «логической истиной» [21; 95].
Проблема истинности, или достоверности, получаемого ученым знания является ключевой в теории познания. Этой проблеме посвящено множество работ, и нет возможности в небольшой статье рассмотреть все существующие по этому поводу мнения. Автор видит свою задачу в том, чтобы различить и сопоставить истинность и достоверность. Неопозитивизм подраз- делял научные истины на эмпирические и логические, первые можно проверить на практике, тогда как вторые не зависят от опыта, их достоверность имеет конвенциональный характер, опирается на априорные конструкции.
Наука как социальный институт возникла в ответ на потребность достоверного знания, на основании которого человек может планировать и осуществлять деятельность по достижению намеченных целей и решению поставленных задач. В современной науке появился термин «мягкие факты», имеются в виду факты, чья до -стоверность не опровергается, но и не получает пока подтверждения. В отличие от них, «твердые факты» подтверждены объективными доказательствами.
Переходя с уровня научно-теоретического языка на обыденный, Л. Витгенштейн предпочел отказаться от понятия «истинность» и использовать «достоверность» [6; 8]. Эти термины обычно рассматриваются как синонимы, в них в самом деле можно найти много общего, совпадающего, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить небольшие различия. Рассмотрим эти различия.
Слово «истинность» происходит в русском языке от «есть», существовать в действительности. И хотя есть разные виды истины: абсолютная, относительная, объективная, субъективная, вероятностная, обычно истина понимается как констатация адекватности наших знаний о реальности. Причем в понятие «истина» заложено стремление к абсолютности этой полноты. Тем не менее остаются две трудности: 1) вопрос о полноте наших знаний о реальности; 2) наличие субъективного аспекта отношения к реальности, который должен быть элиминирован (устранен). Когда этот момент осознается, возникает представление об относительной, субъективной и вероятностной истине.
При определении критериев истины различными философами акцент делался на разные источники:
-
• истинно то, что принимают за истину большинство людей в силу привычки и неосознанного убеждения (априоризм);
-
• истинно то, во что люди верят (фидеизм);
-
• истинно то, что принимается в качестве такового в результате соглашения между людьми (конвенциализм; У. Джемс);
-
• истинно то, что соответствует реальности (адекватность; Аристотель);
-
• истинно то, что представляется очевидным и ясным для мыслящего разума, для умственного взора (рационализм; Р. Декарт);
-
• истинно то, что подтверждается свидетельством органов чувств (сенсуализм; Д. Локк, Д. Беркли);
-
• истинно то, что подтверждается на практике (материализм; К. Маркс);
-
• истинно то, что полезно и выгодно (прагматизм; Дж. Бентам, Дж. Милль);
-
• истинно то, что помогает достижению цели (инструментализм; Д. Дьюи).
В основе современного рационализма (или критической философии, по определению М. Полани) лежит метод сомнения – «логический королла-рий объективизма. Он основан на допущении, что после искоренения всех волюнтаристских компонентов мнения нетронутым сохранится некий осадок знания, полностью определенный очевидностью. Критическая мысль доверяла этому методу как безусловному средству избежать ошибки и установить правду» [11; 280– 281]. Принцип сомнения, лежащий в основе рационализма, был введен Р. Декартом и Д. Юмом. На примере четырех правил Декарта для руководства ума легко увидеть, что принципы рационализма держатся на иррациональных основаниях. Основы рационалистической методологии сформулированы им в «Правилах для руководства ума»:
«Первое – никогда не принимать на истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению.
Второе – делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько возможно и нужно для лучшего их преодоления.
Третье – придерживаться относительного порядка мышления, начиная с предметов наиболее простых и наиболее легко познаваемых и восходя к познанию наиболее сложного, предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи.
И последнее – составлять всегда перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений» [3; 272].
Эти правила, вполне понятные (хотя и не бесспорные) и необходимые в естественно-научном познании, мало пригодны в гуманитарной сфере, и рациональность их относительна, потому что отсутствуют объективные критерии «очевидности» в первом правиле, во втором – неясны «возможность» и «нужность» количества частей, на которые необходимо дробить объект в ходе изучения, в четвертом – появляется «уверенность» – сомнительный и неоднозначный критерий полноты познания. Как заметил Э. Гуссерль, «очевидность есть не что иное, как “переживание истины”, то есть “переживание совпадения мыслимого с присутствующим”» [15; 190].
Отдавая должное роли критического метода в исследовании, Л. П. Карсавин возражал против абсолютизации критики, ибо, по его словам, «не критикою доказывается истинность того, чего нет в подвергаемом критике. Критицизм – признак ученичества и не руководимых целью исканий. И даже отдельные критические замечания полезны лишь в качестве иллюстраций доказываемой мысли. Что касается положительного доказательства, оно всегда – раскрытие системы» [5; 17].
Об этой и других «странностях» европейской культуры размышлял русский философ А. С. Хомяков: «Странную мы проделку сделали с душою человеческою (кто именно, все равно), а разграфили мы ее в такой административный порядок, что про цельность ее мы никак не вспомним, да и она не вспомнит, если нам поверит; вот тут понимание, вот тут чувство, вот то, вот другое. А на деле-то она, право, не похожа на нашу таблицу: она живое и недробимое целое. Только любовью укрепляется самое понимание» [20; 272].
Известны следующие основные исторические формы рациональности:
-
• обнаружение общего в различном (Сократ), на основе чего выработался генерализирующий метод;
-
• выявление очевидной достоверности объективного знания (Декарт);
-
• механистичность и исчисляемость явлений природы (Ньютон, Бюффон и др.);
-
• обоснование достоверности через критику (Юм, Кант);
-
• отождествление гносеологии, логики, диалектики и онтологии (Гегель);
-
• сведение критериев достоверности к материальной практике (Конт, Маркс).
К. Поппер предлагал четыре способа проверки теории: а) проверка внутренней непротиворечивости по полученным результатам; б) проверка логической формы теории; в) сравнение данной теории с другими на предмет выявления ее эври-стичности; г) проверка практикой. Вслед за этим он ввел критерий фальсификационизма [12].
Истоки «фальсификационизма» К. Поппера связаны с идеями Дж. Милля: «Для нас не существует никакого другого ручательства в истинности какого бы то ни было мнения, кроме того, что каждому человеку предоставляется полная свобода доказывать его ошибочность, а между тем ошибочность его не доказана. Если вызов на критику не принят или если принят, но критика оказалась бессильной, то это еще нисколько не значит, что мы обладаем истиной, – мы можем быть еще очень далеки от истины, но по крайней мере мы сделали все для ее достижения, что только могло быть сделано при настоящем состоянии человеческого понимания, мы по крайней мере не пренебрегли ничем, что могло раскрыть нам истину, и если поле для критики остается открытым, то мы можем надеяться, что ошибки, какие есть в нашем мнении, будут раскрыты для нас, как только ум человеческий сделается способен к их раскрытию, а покамест имеем основание думать, что настолько приблизились к истине, насколько это возможно для нас в данную минуту. Вот только до какой степени человек достигает знания истины, и вот единственный путь, которым он может достигать этого знания» [13; 232–233].
В социально-исторических исследованиях нередко возникает вопрос о критериях убедительности и аргументированности тех или иных интерпретаций исторических феноменов. Рационально-гносеологическая парадигма требует включения всей человеческой практики в определение предмета, но такое требование невыполнимо, и поэтому дело сводится к некоторому числу аргументов, призванных подтвердить внешне непротиворечивую трактовку предмета. Но такая трактовка, по логике рационалистического метода, должна быть однозначной и, следовательно, односторонней. Это требование оправдывается необходимостью выявления главной, сущностной доминанты. В то же время подобная необходимость правомерна лишь как исследовательский аналитический прием, нуждающийся в оговорках и ограничениях и в последующем дополняемый синтетическим возвращением этого элемента в структуру процесса. К сожалению, для рационально-гносеологического подхода эта часть исследования обычно является факультативной, и аналитический прием выхватывания одной из сторон предмета (возможно, важнейшей на данном этапе процесса) превращает ее в абсолют и фетиш, навязываемый в качестве образца на всех других этапах процесса, когда он уже не имеет права считаться ведущим. Вот почему правомерно определить такую методологию как «рационально-гносеологический фетишизм».
Таким образом, показателем истинности исторического описания является, на наш взгляд, не отсутствие противоречий или полное соответствие описания действительному событию (это невозможно в принципе), а описание события именно с разных точек зрения, в различных аксиологических координатах, что позволит обнаружить не только рациональные, но и иррациональные аспекты феномена.
Рационально понятая истина обычно рассматривается как однозначная и одномерная. В действительности истина многозначна и многомерна. На вопрос «насколько точно вы знаете?» можно ответить, что знание получено «определенно», «абсолютно точно», «поверхностно», «формально», «исходя из собственного опыта», «из достоверного источника», «по косвенным данным» [9; 53].
К. Поппер полагал сущностью теории Аристотеля учение о логической валидности и силе абсолютной и относительной истины. Абсолютная истина – вещь невозможная, истина всегда относительна. Но есть еще объективная истина. О ней, со ссылкой на Альфреда Тарского и Курта Гёделя, говорил на XVIII Всемирном философском конгрессе Поппер: это «истина соответствия утверждений и фактов». Но если «точно сформулированное утверждение истинно на одном языке, то при правильном переводе его на другой язык оно также остается истинным», тогда оно имеет статус «абсолютной истины» [13; 138]. Однако чаще понятие абсолютной истины не употребляется относительно результатов человеческого познания, этот термин применяют по отношению к Господу Богу, которому абсолютная истина доступна. Человек же ею не владеет, он может получать в ходе научного поиска лишь объективные, относительные, вероятностные истины.
Вопрос о критериях истины чреват парадоксом бесконечного регресса, ибо неизбежен вопрос о критериях этих критериев и т. д. Аристотель хотел преодолеть это противоречие через введение закона непротиворечивости: если А = В, то А ≠ не-В. Иначе говоря, невозможно, чтобы отрицание и утверждение в одном и том же отношении и в одно и то же время были ложными и истинными. Но на самом деле такие противоречия в реальности возможны, вспомним известный парадокс лжеца: «Лжец говорит, что он лжет, и при этом невозможно решить – он лжет или говорит правду». Об этом же говорил Ф. Ницше: отрицание таких противоречий характеризует лишь процесс нашего их осмысления, тогда как в жизни противоречия подобного рода вполне реальны [8; 236].
Для Декарта критериями истины являются ясность и очевидность для мыслящего ума. Сен- суалисты выдвигали сходные критерии: яркость ощущений, одинаковость (интерсубъективность), согласованность, простота, обозримость и удобство (экономия мышления). Кант вслед за Аристотелем в качестве критерия полагал соответствие знания о предмете самому предмету, для теоретического знания критерием следует считать истинные следствия из соответствующих причин. Маркс в качестве критерия выдвигал практику, однако не все можно проверить на практике. Практика – это относительный и далеко не единственный критерий, хотя во многих случаях его, разумеется, нужно учитывать, особенно если речь идет о естественно-научном знании. Сложнее применять этот критерий в социальном знании, еще труднее – в гуманитарном.
Различают объективную и субъективную достоверность [10]. Объективная достоверность лежит в основе рационального естественно-научного и технического знания. При этом предполагается, что подтвердить это знание способны люди, которые могут выступать в качестве непредвзятых «судей», незаинтересованных свидетелей. В основе иррационального знания лежит субъективная достоверность. Это такое знание, которое не могут подтвердить посторонние, свидетели. Например, если мы спросим у верующего: «Есть ли Бог?» он ответит: «Конечно, есть». «А откуда ты знаешь, что он есть?» «Знаю, потому что я с ним контактирую, ощущаю его присутствие, он мне помогает». Можно ли проверить, действительно ли он ощущает его присутствие или все выдумывает? Мы не сможем проверить, ибо это субъективно достоверное знание, но для него это знание о контакте с Богом является вполне достоверным. Свой критерий предложил И. А. Ильин: «…жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть, ибо смерть есть истинный и высший критерий для всех жизненных содержаний» [4; 52].
В естественно-научном знании достоверность является результатом верификации и даже «фальсификации» (К. Поппер). Только многократная проверка может удостоверить относительную истинность концептов естественнонаучного знания. Достоверность в гуманитарном знании имеет совсем другие основания. По словам М. М. Бахтина, «пределом точности в естественных науках является идентификация (а = а). В гуманитарных науках точность – преодоление чуждости чужого без превращения его в чисто свое (подмены всякого рода, модернизация, неузнание чужого и т. п.)» [2; 371]. По словам Э. Фромма, «объективность означает не беспристрастность, но определенное отношение, а именно умение не искажать и не фальсифицировать вещи, людей, да и самих себя» [18; 91]. Можно процитировать знаменитую «бритву» Вильгельма Оккама: «entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (не умножать сущностей без необходимости).
В гуманитарном знании можно пользоваться гипотезами на правах достоверных или относительно проверенных теорий, потому что гуманитарное знание связано с решением «вероятностных» проблем. Вспомним «Поэтику» Аристотеля: «…задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости» [1; 655]. В связи с этим можно говорить о «вероятностной» (или конвенциональной) истине, то есть об истине, достоверность которой может быть оценена, например, в процентах (от 50 до 100). Можно сослаться на пример И. Канта, предлагавшего заключить пари по поводу какого-либо утверждения (убеждения). По мере увеличения доверия к гипотезе на основе дополнительной подтверждающей информации можно более широко пользоваться ею для вероятностных теоретических построений. Другой пример – религия: вера не требует в качестве основания материальных или физических фактов, вполне достаточно очевидности субъективного опыта личных переживаний или авторитета традиций, которые отвечают на потребности в надежде, в «приукрашенной» ценностной картине мира. Что с того, что в физическом мире нет подтверждения или опровержения этому субъективному опыту переживаний?!
Итак, особенности достоверности в гуманитарном знании можно обнаружить на основе компаративного метода, сравнения ее с достоверностью в естественно-научном знании:
|
Критерии достоверности естественно-научного знания |
Критерии достоверности гуманитарного знания |
|
Детерминированность |
Синхронная обусловленность |
|
Проверяемость на практике |
Убедительность |
|
Объективность |
Вероятностный релятивизм |
|
Общезначимость, универсальность |
Уникальность, оригинальность |
|
Дифференцированность |
Целостность |
|
Материальная предметность Практическая полезность |
Идеальный характер Ценностный смысл, опосредованная связь с потребностями |
«Цель оправдывает средства» – создание и реализацию такого принципа обычно приписывают Н. Макиавелли, но если внимательно рассмотреть идеи флорентийского мыслителя, то можно убедиться, что он не вполне принимал такой подход, ибо, по его убеждению, монарх вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с соседями договор, если он уже не отвечает интересам государства в новых, из- менившихся условиях. Здесь критерием истинности являются интересы государства, а не субъективный произвол. А Игнатий Лойола действительно реализовал его, поскольку для защиты католической церкви ему было разрешено использовать любые средства, вплоть до аморальных и преступных. Вслед за ним К. Маркс и В. И. Ленин вполне явно и сознательно придерживались такого же подхода. Ленинская формула «Наша мораль определяется интересами классовой борьбы» является перефразированным иезуитским лозунгом. Можно ли считать такой принцип основанием истинности? Если да, то в каком смысле?
Этимологию слова «истина» П. А. Флоренский связывал с корнем «есть», с представлением об абсолютной реальности [16; 15–16]. В то же время А. С. Хомяков отмечал: «Всякая истина многостороння, и ни одному народу не дается ее осмотреть со всех сторон и во всех ее отношениях к другим истинам» [17; 269]. П. А. Флоренский определял: «Истина есть интуиция, которая доказуема, т. е. дискурсивна». Под достоверностью он понимал «узнание собственной приметы истины, усмотрение в истине некоторого признака, который отличает ее от неистины» [19; 230].
Интуиция играет большую роль в познании мира, однако в философии принято с недоверием относиться к ней и к тому, что дает интуитивное познание. В теоретической деятельности «внезапно открывающееся решение – это обычно не окончательное разрешение вопроса, а его антиципация – гипотеза, которая превращается в действительное решение в ходе его последующей проверки и доказательства» [14; 58]. Дело в том, что результат научного исследования должен отвечать критериям истинности и объективной достоверности .
Соответственно, можно говорить о трех аспектах (или трех видах) истины: 1) объективность; 2) относительность; 3) устремленность к абсолюту. Объективной истиной считается фактическое суждение, истинность которого установлена и проверена объективным критическим сомнением и не зависит от мнения или интереса отдельного человека. Абсолютная истина – проблематична, и хотя любое представление об истине опирается на неявное желание считать ее абсолютной, она возможна лишь в рамках определенной мифологической системы, носителем абсолютной истины является лишь Бог. Большинство же истин, с которыми имеет дело человек, являются относительными, и они верны лишь в рамках соответствующих систем координат, ценностных критериев, аксиоматических установок и конвенций.
Сопоставляя научное и мифологическое (или иное иррациональное) знание, можно установить, что наряду с общей субъективной природой между этими двумя видами знания есть различия, обусловленные тем, что научное знание стремится элиминировать (исключить) субъек- тивность и опирается на негативно-критическую рефлексию как средство проверки и верификации, а мифологическое и иррациональное знание имеет имманентную (внутренне присущую) субъективность и опирается на позитивную, утверждающую рефлексию, запрещая критическую. В то же время субъективность мифологического знания имеет онтологический статус. Для научного знания объективность служит категорическим императивом (это обусловлено тем, что критерии научности сформировались в рамках естественно-научной методологии), однако любая теория в качестве своих конечных оснований опирается на некоторые априорные (врожденные, иррационально-субъективные) основания, аксиомы «чистого разума» (или результат интуитивного осмысления практического опыта). Мифологическое знание также содержит в своей основе априорные схемы, архетипы или идеалы, высшие ценности, Бога, относительно которых выстраивается система мифологического знания. Таким образом, аксиомы знания обладают функционально-аксиологической или культурно-психологической природой. Разумеется, вопрос о различии двух видов знания к этому не сводится, необходимо рассматривать проблему достоверности и многие другие аспекты.
Уильям Джеймс полагал, что все теории суть «инструменты», теория тогда истинна, когда она действенна, то есть достигает цели и результата. По поводу религиозной веры Джеймс утверждал: если вера делает жизнь человека лучше, то она истинна, коль скоро она полезна , то есть «работает» на человека и помогает удовлетворять его потребности. Вслед за этим Джон Дьюи утверждал, что мышление является инструментом решения научных проблем.
Телеологическое осмысление истинности рассматривает проблему с точки зрения вопросов: зачем? для чего? с какой целью? Здесь учитываются интересы субъекта, поэтому важны субъективные моменты. Следовательно, достоверность может быть объективной и субъективной, а истинность субъективной быть не может. При этом, как справедливо заметил М. С. Каган, если речь идет о непосредственном отношении рассматриваемого объекта к потребностям субъекта, то следует говорить о полезности и выгоде. Если же это отношение является опосредованным, оно называется ценностным отношением.
А. С. Пушкин сказал об истине так: …Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман.
В каком случае «истине» предпочитают «обман»? Когда «истина» низкая, а «обман» – возвышающий. Но у Пушкина акценты расставлены так: «обман» рассматривается как бескорыстная иллюзия, увлечение, которому доверил себя, позволил себя унести на время; в то же время существует понимание, что от «истины» здравого рассудка никуда не денешься, придется к ним рано или поздно возвратиться. Обманчивые ил- люзии, мечты уносят нас в возвышенный мир грез и надежд, которые в любом случае более дороги, нежели мир трезвого рассудка. При это речь не идет об альтернативе «или – или». Мир трезвого рассудка, разумеется, так же необходим, как необходимы иллюзии и надежды. Просто они выполняют разные задачи, ведут к различным целям.
Таким образом, можно утверждать, что телеологический критерий применим в большой степени к пониманию достоверности, но меньше подходит к трактовке истинности. Соответственно, различие между истинностью и достоверностью возможно свести к следующим ха- рактеристикам, которые одновременно дают ясное представление о существе каждой из них:
|
Истинность |
Достоверность |
|
Очевидность |
Проверяемость |
|
Адекватность знаний реальности |
Соответствие знаний реальности |
|
Объективность |
Относительность |
|
Реальность |
Когнитивная вера |
|
Самодостаточность |
Верифицируемость |
|
Несомненность Априорность |
Возможность сомнения Телеологичность |
Список литературы Истинность и достоверность
- Аристотель. Поэтика//Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 645-680.
- Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361-373.
- Декарт Р. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950. 712 c.
- Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М.: Русская книга, 1993. Т. 1. 400 с.
- Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.: АО «Комплект», 1993. 352 с.
- Марков Б. В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001. 568 с.
- Милль Дж. С. Утилитаризм. О свободе. 3-е изд. СПб.: Изд-во И. П. Перевозникова, 1900. 426 с.
- Ницше Ф. Воля к власти//Избранные произведения: В 3 т. М.: REFL-book, 1994. 352 c.
- Остин Д. Л. Чужое сознание//Философия, логика, язык. М.: Наука, 1987. С. 48-95.
- Пивоев В. М. Субъективная достоверность и ее критерии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2008. № 4(97). С. 72-78.
- Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
- Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 605 с.
- Поппер К. Мир предрасположенностей. Две новые точки зрения на причинность//Философия и человек. М.: ИФ РАН, 1993. Ч. 2. С. 138-152.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т. 2. 328 с.
- Философия Гуссерля и ее критика: Реф. сб. М.: ИНИОН, 1983. 184 с.
- Флоренский П. А. Столп и утверждение истины//Вопросы религии. М., 1908. Вып. 2. С. 226-384.
- Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. Т. 1. Ч. 1. 490 c.
- Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. 415 c.
- Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988. 462 c.
- Хомяков А. С. Разговор в Подмосковной//Хомяков А. С. О старом и новом. М.: Современник, 1988. С. 252-277.
- Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. М.: КомКнига, 2006. 216 с.