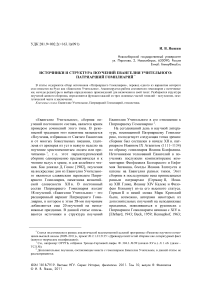Источники и структура поучений Евангелия Учительного: Патриарший Гомилиарий
Автор: Якшин Иван Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится обзор источников «Патриаршего Гомилиария», перевод одного из вариантов которого стал известен на Руси как «Евангелие Учительное». Анализируется работа составителя гомилиария с источниками, методы редактуры и выбора определенных произведений для включения в свой текст. Разбирается структура поучений данного сборника, определяются функции каждой из трех основных частей гомилий - вступления, экзегетической части и заключения.
Евангелие учительное, патриарший гомилиарий, гомилетика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737603
IDR: 14737603 | УДК: 281.9+002.2(=163.1)(091)
Текст научной статьи Источники и структура поучений Евангелия Учительного: Патриарший Гомилиарий
«Евангелие Учительное», сборник поучений постоянного состава, является ярким примером сочинений этого типа. В рукописной традиции этот памятник называется «Поучениа, избраннаа от Святаго Евангелиа и от многых божественых писании, глаголема от архиереа из уст в всякую неделю на поучение христоименитым людем или про-читаема» 1, т. е. этот паралитургический сборник одновременно предназначался и к чтению вслух в храме, и для келейного чтения. Как доказал Д. Гонис [1982], поучения на воскресные дни из Евангелия Учительного являются славянским переводом Патриаршего Гомилиария, памятника византийской словесности XII в. В постоянный состав Патриаршего Гомилиария входит 58 поучений. «Евангелие Учительное» – это расширенный вариант Патриаршего Гоми-лиария, в котором к этим 58-ми поучениям добавляются еще 20 поучений на неподвижные праздники. В данной статье описываются источники и структура поучений
Евангелия Учительного в его отношении к Патриаршему Гомилиарию 2.
На сегодняшний день в научной литературе, посвященной Патриаршему Гомилиа-рию, господствует следующая точка зрения: сборник был составлен в начале XII в. патриархом Иоанном IX Агапитом (1111–1134) по образцу гомилиария Иоанна Ксифилина. Источниками толкований Евангелий в поучениях послужили компиляторские комментарии Феофилакта Болгарского и Евфимия Зигавина, беседы Иоанна Златоуста и катены на Евангелия разных типов. Этот сборник в последующие века приписывался разным патриархам (Герману II, Иоанну XIII Глике, Иоанну XIV Калеке и Филофею Коккину) из-за его высокого статуса. Герман II и некий монах Марк Критский были, возможно, авторами некоторых из дополнительных поучений на неподвижные праздники, появлявшихся в рукописях с Патриаршим Гомилиарием начиная с XIV в. [Ehrhard, 1943; Beck, 1959; Hennephof, 1963;
* Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)».
Giannouli, 2006]. Нельзя не признать, что Патриарший Гомилиарий до сих пор является памятником неизданным и малоизученным. Археографический обзор списков со сборником, четкое выделение по инципи-там поучений из постоянного состава и замечания об источниках экзегетической части отдельных поучений – вот и все, что сделано на настоящий день. В дальнейшем необходимо изучить историю не только текста Патриаршего Гомилиария, но и ксифи-линовского собрания поучений, чтобы разобраться в проблеме соотношения этих двух сборников.
Выскажем всего лишь пару собственных предположений об авторстве гомилиария. Во-первых, имена Иоанна Глики и Иоанна Калеки могли появиться среди имен составителей случайно, только потому что переписчики не разобрали, какому именно патриарху Иоанну приписывается сборник. Во-вторых, мы полагаем, что Филофей Коккин назван в некоторых из списков автором го-милиария потому, что сборник был отредактирован в XIV в. в исихастской среде. На наш взгляд, одним из примеров позднего исправления, внесенного в текст XII в., является фрагмент из вступления к Поучению в неделю 17-ю по Пятидесятнице. Вступление к нему составлено из двух дословно процитированных отрывков из слова 2-го, «О молитве», Иоанна Златоуста, входящего в «Выборки из разных слов» этого автора. Первый отрывок разбивается на две части коротким фрагментом, источник которого нам определить не удалось: «Молю же всех верных, братие моя, хотящих спастися, правила молитвы не презирати николи же, но аще ядите или пиете, или делаете, или шествуете, или стоите, или седите, или что ино творите, непрестанно въпиите кождо: “Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-милуи мя”. Глаголеть бо апостол: “непрестанно молитеся”. И Господь нашь: “бдите и молитеся на всяко время”» 3 (ТСЛ 100. Л. 281 об.).
Схожий отрывок мы находим в сочинении Каллиста и Игнатия Ксанфопулов (конец XIV в.), находящемся во втором томе славянского «Добротолюбия» 4. В главе 49
их «Наставления о безмолвии и молитве» читаем: «И божественный убо Златоуст це-лу ту [молитву] предает, тако пишя: Молю вас братие, правило молитвы никогда же да поперете или презрите. Слышах бо некогда отцы глаголющыя, яко каков есть он инок, аще правило сие презрит, или поперет: но должен есть, аще яст, аще пиет, аще седит, аще служит, аще путешествует, аще ино что творит, непрестанно вопити сие: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя» 5. (Добротолюбие, 1793. Ч. 2. Л. 81 об.) Очевидно, что у фрагмента из Евангелия Учительного и у фрагмента из сочинения Каллиста и Игнатия один источник: гомилия Иоанна Златоуста, в которой ему приписано правило 6, требующее непрестанного произнесения Иисусовой молитвы. Мы предполагаем, что в XIV в. это слово псевдо-Златоуста, несомненно популярное в исихастских кругах, было использовано для расширения текста Патриаршего Гомилиария – возможно, это было частью редактуры данного сборника, предпринятой исихастом Фило-феем Коккином.
Итак, мы предполагаем, что имеем дело со сборником поучений XII в., отредактированным и расширенным в исихастской среде в XIV в. и тогда же переведенным на славянский язык. Так как историю греческого текста изучить мы не можем, рассмотрим, какими источниками пользовался составитель сборника XII в. и как он обрабатывал их, включая в свой текст, что даст нам возможность описать не личность предполагаемого составителя, но его методы. Да и нельзя в данном случае с определенностью говорить только об одном составителе. Вспомним, как описывает Евфимий Зига-вин, чьи толкования стали одним из основных источников для Патриаршего Гомилиа- вершенное, и от святых свидетельства имущее, о из-воляющих безмолвно и иночески пожити, о пребывании и жительстве и пище их, и еликих и коликих благ безмолвие виновно бывает разумно проходящым е» (Добротолюбие. М., 1793. Ч. 2. Л. 48 об. – 113 об.).
рия, свою работу над компилятивной «Догматической Паноплией»: «Высоко ценя свою деятельность для Церкви, Алексей захотел и для своих потомков дать руководство в подобном же деле и как бы научить их военному искусству для будущих богословских сражений; поэтому он приказал разумным людям собрать мудрые изречения из отцов и других защитников веры и потом все, собранное ими, передал мне для окончательной обработки в одно целое» [Лебедев, 1998. С. 302]. Мы сомневаемся в том, что патриарх Иоанн IX Агапит самостоятельно отбирал фрагменты для составления своего сборника поучений, поэтому «составитель Патриаршего Гомилиария», о котором мы будем говорить в дальнейшем, – это предельно условное обозначение, используемое для того, чтобы подчеркнуть стилистическое и формальное единство самого сборника, над которым, возможно, работал не один автор.
Экзегетическая часть поучений из Патриаршего Гомилиария – это по большей части сложная компиляция из толкований Феофилакта Болгарского (цитаты обнаруживаются в 53 гомилиях из 58), Евфимия Зигавина (32 из 58), Иоанна Златоуста (18 из 58) и текстов катен. Составитель мог дословно цитировать свои источники, но чаще расширял их с помощью синонимов, повторов, библейских цитат и кратких этических рекомендаций. Никогда не заимствовались аллегории, присутствующие у вышеперечисленных экзегетов в толкованиях на соответствующие евангельские чтения. Цитаты из разных источников в тексте гомилиария либо идут последовательно друг за другом, либо контаминируются, сливаясь в один цельный фрагмент.
Феофилакт Болгарский написал свой комментарий по просьбе василиссы Марии Аланской, вдовы императора Михаила VII Дуки (1071–1078) [Оболенский, 1998. С. 429]. Из «Алексиады» Анны Комнины нам известно, что по крайней мере одна из компиляций Евфимия Зигавина – «Догматическая паноплия» – была составлена по просьбе императора Алексея Комнина. Очевидно, что в конце XI – начале XII в. правящая семья заказала несколько компилятивных сборников, связанных с толкованием Евангелия. Следовательно, можно предположить, что и Патриарший Гомилиарий мог появиться по инициативе или самого императора, или кого-то из его родственников.
Кроме этих четырех основных источников составитель использовал еще и «многие божественные писания», как сообщает заглавие сборника. Следы некоторых из них нам удалось отыскать в текстах поучений.
Начнем с Иоанна Златоуста . Понятно, что составитель обращался к его Беседам на Евангелия, когда ему требовалось истолковать евангельское воскресное чтение. Но у Златоуста кроме Бесед, охватывающих весь текст Евангелий от Матфея и Иоанна, есть и беседы, посвященные отдельным событиям евангельской истории. Из них составитель заимствует отдельные фрагменты в тех случаях, когда тема беседы совпадает с темой, основанной на праздничном чтении из Евангелия. В экзегетической части соответствующих поучений используются Беседа о расслабленном, спущенном через кровлю, Беседа о сотнике (Spuria), Слово о Лазаре первое и третье, Беседа о Лазаре и богаче (Spuria). Кроме этого, во вступлении к Поучению в неделю о блудном сыне цитируется Беседа седьмая о покаянии. Но чаще всего в Патриаршем Гомилиарии мы встречаем фрагменты из эклог или «выборок из разных слов» – компиляций из Златоуста на определенные темы. В толкованиях использованы следующие слова из собрания златоустовых эклог: Слово 1 о любви, Слово 2 о молитве, Слово 6 об учении и наставлении, Слово 15 о корыстолюбии, Слово 25 о будущем суде.
Есть в Патриаршем Гомилиарии и цитаты из всех трех великих каппадокийцев. Так, составитель использовал беседы Василия Великого : Беседу 1 (О посте первая), Беседу 6 (На слова из Евангелия от Луки: «Разорю житницы моя и большия созижду» и о любостяжательности), Беседу 25 (О милости и суде). В толкованиях стиха Ин. 5 , 14 из Поучения в неделю о расслабленном используется также толкование на первую главу пророка Исайи из толкования Василия Великого на 16 глав этого пророка. Но самый необычный и замечательный пример цитаты из Василия мы находим в толковании стиха Лк. 13 , 14 7 в Поучении в неделю двадцать седьмую по Пятидесятнице:
Василий Великий «Письмо 196 (204),
* к неокесарийцам»
Ибо многое и хорошее не представляется хорошим для людей, не имеющих в уме своего верного начала к суждению. И равновесные тяжести кажутся неравными, когда весовые чашки не имеют между собою равновесия. Даже и мед для иных казался горьким, если у них чувство вкуса повреждено было болез-нию. И глаз в нездоровом состоянии не видит много действительного, представляет же многое такое, чего нет.
Патриарший Гомилиарий (ТСЛ 100. Л. 361 об.)
Не имеющимь бо разсужение разума опасна многа блага не блага быти мнятся, но об-лъгають сиа и поношают. Множицею бо и мед некым горек явися вкусным чювством от недуга растлеваемым. И око, нездраво суще, многа суща не виде, многа же не сущая предложи. И равнотяготная вещи неравна быти мнить, егда неравнотяготне имеють друг к другу мерила.
Василий Великий . Письма. М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. С. 174.
Не решимся утверждать, что составитель обратился в данном случае именно к самому посланию Василия Великого, вспомнив, что там есть три великолепных сравнения, позволяющих охарактеризовать странное поведение начальника синагоги из комментируемого евангельского чтения. Возможно, в данном случае был использован какой-то сборник с выписками из сочинений отцов церкви. А вот к беседам Василия составитель гомилиария мог обращаться и напрямую.
Также не вызывает у нас сомнения то, что составитель заимствовал фрагменты из Слов Григория Богослова, обращаясь непосредственно к этим текстам. В Патриаршем Гомилиарии цитируются: Слово 9 (защитительное, говоренное им отцу своему Григо- рию в присутствии Василия Великого), Слово 29 (о богословии третье, о Боге Сыне первое), Слово 30 (о богословии четвертое, о Боге Сыне второе). Любопытно то, что в одной из цитат Григорий Богослов прямо назван автором – случай уникальный для Патриаршего Гомилиария. Обнаруживаем этот пример мы в Поучении в неделю третью по Пятидесятнице, в толковании стиха Мф. 6, 22–23 («Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»). Цитируется стихотворное произведение Григория Богослова, четыре строки из «Мыслей, писанных четверостишиями»:
|
Григорий Богослов * |
Патриарший Гомилиарий (ТСЛ 100, Л. 189) |
|
Umin legw m£lista tois toà bˇmatos, OfqalmÕn einai mˇ skÒtous peplhsmenon, Mˇ kai prÒedroi toà kakoà fainameqa Ei gar tÒ fws toioàton, tÒ skÒtos pÒson; |
Великыи же в богословии Григории и боже-ственыи отець наш сиа глаголеть освящен-нымь Богу: Вамь паче глаголю, сущимь олтарным, Око быти не тмою исполнено, Ниже началници злаго являемся. Аще убо свет – тма, тма же паче колика? |
Thesaurus Linguae Graecae, 2022/060 929.7-929.10 (CD-ROM). Далее – TLG.
Сочинения третьего из великих каппадокийцев, Григория Нисского, также привлекались составителем Патриаршего Гоми-лиария в тех случаях, когда в них либо встречался анализ того же евангельского чтения, либо само произведение было посвящено тому же празднику. Так было, например, с Поучением в неделю по Креще- нии, во Вступлении к которому дословно цитируется «Слово на день Светов, в который крестился наш Господь» Григория Нисского. А в Поучении в неделю о самаряныне мы встречаем небольшой фрагмент из «Опровержения Евномия», в котором Григорий представляет непостижимость Божьей сущности и толкует сказанное самарянке: «Вы не знаете, чему кланяетесь».
Два листа занимает в Поучении в неделю восемнадцатую по Пятидесятнице отрывок из трактата «О Богоявлении». Он был написан Евсевием Памфилом , епископом Кесарийским в конце 330-х гг. и до сих пор, насколько нам известно, не переведен на русский язык. Составитель Патриаршего Гомилиария использует этот трактат в толковании на стих Лк. 5 , 10б 8. В цитируемом фрагменте Евсевий, используя восходящее к Анаксагору суждение «явления суть видимое обнаружение невидимого» 9 [Фрагменты…, 1989. С. 535], показывает, что о Богоявлении можно судить по биографиям его апостолов: нищий, полуграмотный Петр, знавший только сирийский язык, смог стать основателем нескольких церквей только благодаря силе Бога.
Соборное послание Софрония, патриарха Иерусалимского с 634 по 638 г., на Шестом Вселенском Соборе (680–681) использовалось как ортодоксальное свидетельство, направленное против монофелитов. Отрывок из него, в котором Софроний говорит о соединении в Иисусе Христе двух естеств («находящийся в недрах вечнаго Отца является носимым в материнской утробе, и неограниченный временем принимает временное начало») и о цели воплощения («благоволил быть и называться человеком, чтобы подобным было очищено подобное и однородным спасено однородное, и сродным прославлено сродное» 10), дословно процитирован составителем в Поучении в неделю по Рождестве, в толковании стиха Мф. 2, 20б 11, сразу вслед за толкованием Феофилакта Болгарского, изобличившего еретиков, утверждавших, что у Христа не было души. Составитель демонстрирует здесь и умение вставить подходящую цитату в нужный контекст, и свое прекрасное знание документов Вселенских Соборов, на основе которых будет составлено одно из поучений.
Активно использовал составитель и монашескую литературу. Одна гомилия из сборника духовных бесед, приписываемого Макарию Великому (Египетскому) 12, цитируется в Поучении в Лазареву субботу. Заимствованный фрагмент говорит о невидимом свете, озаряющем сейчас тела святых, который можно будет увидеть после второго пришествия Христа. В этом отрывке мы видим один из ранних примеров того, что В. Лосский называл «богословием света» [1968]. «Мистика света, достигаемая в успокоении ума ото всего, что может его волновать и возмущать, уже была прекрасно известна этому пустыннику, т. е. на тысячу лет раньше, чем о том же учили Палама и исихасты. Симеон Новый Богослов, Палама, Григорий Синаит только яснее и определеннее высказали то, что было известно опыту подвижников IV века», – пишет другой исследователь исихазма, архимандрит Киприан Керн [1996. С. 223]. В Патриаршем Го-милиарии и мы находим несколько цитат и из других «исихастов до исихазма».
Это заимствования из Максима Исповедника (ок. 580–662) и Симеона Нового Богослова (949–1022), которые мы обнаруживаем вместе с цитатой из Григория Богослова во вступлении к Поучению в неделю тридцать первую по Пятидесятнице. Мы полагаем, что к данным сочинениям составитель обращался напрямую, без посредства компиляций. Цитирует избранные фрагменты он не в случайном порядке: первым идет тот, в котором солнце полностью уподобляется Богу, показаны его созидающее (отпечатки на воске) и разрушающее (засохшая грязь) действия (Максим Исповедник); во втором фрагменте Симеон Новый Богослов использует антитезу, противопоставляя Бога – разумное солнце, благотворно воздействующее на души, и солнце материальное, не способное даже ускорить рост цветов; третий фрагмент говорит уже не о солнце, но о чистом Боге-свете, подобном светлости душ праведников (Григорий Богослов). Далее следует еще и четвертый фрагмент, автора которого нам определить не удалось: «Свет глаголется Христос, яко просвещая ума на разумение неведомых и показуа, яже единым чистым видимая таинства. Свет есть Христос, понеже просвещаеть разумно верных сердца и очесемь чювьственыи свет человеком даруеть». Эти слова о свете тварном, позволяющем видеть глазам, и не-тварном, позволяющем видеть сердцем, уже напоминают формулировки исихастов XIV в.
Богослужебные уставы монастырей предписывали читать на протяжении всего церковного года огласительные поучения Феодора Студита (759–826) [Ищенко, 1979. С. 159]. Не ясно, как именно читались его Большой и Малый Катехизисы – возможно, большие поучения Феодор произносил утром, а малые – вечером [Там же. С. 161]. Изучение взаимоотношений Патриаршего Гомилиария и катехизисов Феодора Студита представляется затруднительным, так как до сих пор не существует научного издания всех трех томов Большого Катехизиса. Между тем, мы полагаем, что и вступления, и заключения ко многим поучениям могут быть позаимствованы именно из этого сборника. Нам удалось обнаружить пока что лишь четыре цитаты из Феодора Студита в Патриаршем Гомилиарии: составителем используются отрывки из Слова 54, Слова 64 и Слова 106 из Малого Катехизиса, Слова 18 из второй половины третьего тома
Большого Катехизиса, а также из огласительного Поучения на Пасху.
Составитель Патриаршего Гомилиария был знаком и с апокрифическими текстами. Дважды для толкования исторических реалий обращается он к «Греческой легенде» (Legenda Graeca), сокращенному парафразу « Вознесения Исайи ». Один раз – пересказывая упомянутые только в нем обстоятельства смерти пророка Исайи («явленнеиши же в нечестии Манасии бысть, иже и людеи всех идоложръствовати понуди, и великаго Исаию древяным растругом разделити» – ТСЛ 100. Л. 472 об.) в Поучении в неделю перед Рождеством. Другой раз – цитируя дословно в Поучении в неделю о слепом при описании происхождения источника Силоам.
Отрывок из гомилий Климента Римского, так называемых « Климентин », позаимствован составителем для толкования стиха Мф. 8 , 28 («И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем») в Поучении в неделю пятую по Пятидесятнице. Основная часть толкований взята у Феофилакта Болгарского и Иоанна Златоуста; речь в них идет о том, что бесы, живя в гробах, пытаются внушить людям мысль о том, что души скитаются после смерти на земле, но это не так – души праведных в руке Бога. После этого идет цитата из «Климентин»:
|
Климент Римский, беседа 17 (TLG 1271/ 006.17.10.4.1.-006.17.10.5.1). |
Патриарший Гомилиарий (ТСЛ 100. Л. 205 об.) |
|
kan [ai yuXan] cwrisqwsin tou swmatos kai tÕn eis autÕn eureqwsin pÒqon ⁄cousai, eis tÕn autou kolpon ferontai aq£natoi, ms en ceimw-nos wra oi atmoi twn opwn upo twn tou hldou aktdnwn elkomenoi ferontai pros auton. |
Души бо разлучени от телес, аще обрящутся веру и любовь к Богу имуще, в недрехь Его носятся бесмертныи, яко же в зимное время пары земленыа от солнечьных лучь привлачими носятся к нему. |
Как видим, автор привлекает апокриф для того, чтобы использовать яркое сравнение: праведные души возносятся после смерти к Богу так же, как и горные туманы ( oi atmoi twn orwn – «пары земленыа») зимой возносятся к солнцу.
В Поучении в неделю по Рождестве, в толковании стиха Мф. 2, 19 13 составитель цитирует описание смерти Ирода Великого из «Иудейской войны» Иосифа Флавия. В данном случае мы сомневаемся, что составитель Патриаршего Гомилиария позаимствовал его напрямую из Иосифа Флавия: ничто не выдает в составителе человека, хорошо знакомого со светской исторической литературой. Скорее всего, отрывок этот попал в гомилиарий через посредство Евсевия Кесарийского, цитирующего тот же фрагмент из Иосифа Флавия в «Церковной Истории», или Георгия Амартола, включившего его в свою хронику.
Обнаружив, что вступления сразу к нескольким поучениям 14 совпадают с чтениями из синаксаря Никифора Каллиста Ксан-фопула (XIV в.), включаемого сейчас в Триодь, можно выдвинуть два предположения. Либо Никифор Каллист Ксанфопул цитирует Патриарший Гомилиарий, либо, что вероятнее, составитель гомилиария и автор синаксаря обращались к одному и тому же источнику. То же, наверное, можно сказать и о совпадениях в толковании стихов Мф. 4 , 18–20 15 из Поучения в неделю вторую по Пятидесятнице с чтением о Петре и Павле из Пролога: и тот, и другой тексты основаны на неизвестном нам источнике.
Итак, составитель Патриаршего Гоми-лиария был способен найти и добавить к экзегетической части своих поучений подходящие отрывки из самых разных источников. Это и богословские труды отцов церкви, и классика монашеского мистицизма, и торжественные слова, и апокрифы, и документы церковных соборов. Патриарший Гомилиарий – это компиляция, но компиляция не механическая, а продуманная и сложная.
Все 58 поучений из Патриаршего Гоми-лиария, за исключением двух, речь о которых пойдет ниже, разбиваются на три части: вступление, экзегетическая часть и заключение.
Экзегетическая часть – это толкование воскресного 16 евангельского чтения, читаемого на литургии. Как мы показали, практически все комментарии здесь заимствованы из разных источников. Выбор евангельских чтений совпадает с современным кругом чтений, сложившимся в константинопольской церкви в X–XII вв. [Скабалланович, 1995. С. 39]. Есть только одно исключение – в Поучении в неделю пятнадцатую по Пятидесятнице комментируется не зачало недели пятнадцатой, Мф. 22 , 35–46 (о высшей заповеди), но зачало недели двенадцатой, Мф. 19 , 16–26 (Иисус и богатый юноша) [Настольная книга…, 1977. С. 590, 593].
Таким образом, в сборнике оказывается три поучения, посвященные беседе Иисуса Христа с богатым юношей: в неделю двенадцатую по Пятидесятнице (основано на комментариях Евфимия Зигавина), в неделю пятнадцатую по Пятидесятнице (основано на комментариях Феофилакта Болгарского на зачало из Евангелия от Матфея) и в неделю тридцатую по Пятидесятнице (основано на комментариях Феофилакта Болгарского на зачало из Евангелия от Луки). Чем объяснить этот странный выбор зачала, мы не знаем, – а между тем указание на то, какой из местных уставов предполагал замену одного чтения другим, многое прояснило бы в истории составления Патриаршего Гоми-лиария.
В двух поучениях отсутствует толкование евангельского чтения в центральной части текста. В Поучении в неделю святых праотец согласно уставу читается Апостол недели двадцать девятой по Пятидесятнице (Кол. 3, 4–11) и Евангелие недели двадцать восьмой по Пятидесятнице (Лк. 21, 12–19). В Патриаршем Гомилиарии вместо этого центральную часть поучения занимают обширные цитаты из Посланий к Евреям и к Римлянам (Евр. 11, 2. 11, 4–11. 11, 17–31. 17, 33–35. 11, 1. Рим. 8, 24б–25), повествующие о вере патриархов от Авеля до Иосифа, о вере судей и пророков. После этого идет отрывок из Послания к Ефесянам (Еф. 4, 4–6) о единстве веры и церкви, сопровождаемый комментарием Феофилакта Болгарского на это послание. В данном случае мы вновь не можем объяснить причины замены толкования евангельского чтения отрывками из посланий Павла.
В Поучении в неделю первую Великого Поста место толкований занимает история восстановления иконопочитания и дословные цитаты из постановлений Шестого и Седьмого Вселенских Соборов. После этого идет обращение к разнообразным группам слушателей из аудитории, каждой из которых дается свое, особое наставление. В данном случае замена толкования евангельского чтения рассказом об истории и смысле поклонения иконам вполне объяснима, так как первая неделя Великого Поста является также и неделей Православия.
Повторение, использование одних и тех же фрагментов для составления вступлений, заключений и (реже) толкований - характерная черта данного сборника. Мы насчитали двенадцать случаев использования одних и тех же фрагментов в разных поучениях (например, вступление к Поучению в неделю о самаряныне - сокращенный вариант вступления к Поучению в неделю Пяти-десятную).
Вступления в Патриаршем Гомилиарии могут выполнять 4 разные функции. Восемнадцать вступлений заявляют тему, разви-ваему в дальнейшем в толковании евангельского чтения (например, вступление к Поучению в неделя семнадцатая по Пятидесятнице содержит прославление настойчивой и полезной молитвы хананеянки, а евангельское чтение - это рассказ об исцелении дочери хананеянки в Мф. 15, 21-28). Семь вступлений раскрывают место недельного евангельского чтения в контексте библейской истории (например, вступление к неделе второй по Пятидесятнице, когда читается Мф. 4, 18 - Мф. 5, 2 о призвании галилейских рыбаков, содержит рассуждения о том, что Христу нужны были свидетели, чтобы рассказать о Нем, поэтому Он и пошел в Галилею призвать Петра и других рыбаков). Двенадцать вступлений рассказывают о сути самого праздника (например, Поучение в неделю о мытаре и фарисее открывается рассказом о неделе провозгласной). Пятнадцать вступлений рассказывают о пользе Евангелия и связаны с последующим толкованием формально (вступление к Поучению в неделю пятнадцатую по Пятидесятнице говорит о благоухании Святого Духа от цветов из евангельских садов). В шести Поучениях вступления отсутствуют. Итак, вступ- ления к поучениям являются факультативным элементом структуры поучений Патриаршего Гомилиария. Решимся даже утверждать, что функции их определяются в основном не темой экзегетической части, но доступными составителю источниками: так, в поучениях на недели триодного цикла он использует синаксарные чтения, а в поучениях на недели после Пятидесятницы часто прибегает к формальным, с точки зрения композиции, вступлениям, описывающим красоту Божественных речений.
Заключения к поучениям, с другой стороны, являются более жестко формализованным элементом структуры. Собственно, в них и содержится так называемое «поучение» - обращение к слушателям, призывающее их менять свою жизнь. Риторические руководства в членении речи на части выделяют два типа заключений: рекапитуляция («часть высказывания, содержащая обобщение изложенного материала») и побуждение («строится как призыв к действию или решению и иногда объединяется с рекапитуляцией») [Волков, 2001. С. 201-202]. В поучениях из Патриаршего Гомилиария мы можем выделить и рекапитуляции, и побуждения. Чистые рекапитуляции находим в семи поучениях. Побуждения же присутствуют в каждом из поучений и легко опознаются, во-первых, по обращению «братие» (adelfoi) и, во-вторых, по употреблению форм глаголов первого лица множественного числа будущего простого времени (сделаем, смиримся, припадем и др.). Этот же дифференцирующий признак мы используем, отделяя краткое побуждение, функцией которого является обращение к аудитории, от рекапитуляции, более близкой к толкованиям и содержащей рассуждения о смысле чтения без призывов к выполнению тех или иных действий. Побуждения в большинстве своем неразрывно связаны с главной темой толкований. В них проповедник либо призывает использовать героя чтения как пример для подражания - положительный (раздадим неправедно нажитое как мытарь Закхей) или отрицательный (не пройдем мимо ближнего как священник и левит из притчи о самарянине), либо призывает повиноваться словам Христа («кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»). Составитель отказывался от сложных богословских аллегорий из толкований Феофилакта Болгарского и Евфимия Зигавина, из которых нельзя было извлечь нравственный урок, но при этом в заключениях активно использует аллегории, легко превращающиеся в понятные каждому слушателю этические рекомендации. Например, поучение, толкующее отрывок о призвании галилейских рыбаков, завершается призывом, в котором Галилейское море превращается в бурное море плотской жизни, а сети рыбаков в сети лукавых помыслов. Автором побуждений был, по нашему предположению, сам составитель: в побуждениях мы не встречаем заимствований из других авторов, и ничто не запрещает нам предположить, что они являются оригинальными текстами. Четыре побуждения не связаны с истолкованиями евангельского чтения, но предлагают слушателям извлечь уроки, связанные либо с историческим смыслом праздника (неделя святых 318 отцов Первого Вселенского Собора), либо с литургическим (неделя Пяти-десятная), либо с ритуальным (недели до и после Рождества). Итак, заключение является важнейшим и незаменимым элементом структуры поучений. За редчайшими исключениями оно всегда связано с толкованиями евангельского чтения и обладает одной и той же функцией – содержит наставления слушателям, следующие из предварительного разбора смысла зачала соответствующей недели.
Лишь два поучения из гомилиария отличаются по структуре от остальных. Это Поучение в неделю Пасхи и Поучение в понедельник Светлой недели. Поучение в неделю Пасхи – это Поучение огласительное Феодора Студита на Пасху, расширенное с помощью фрагмента из его же четвертого поучения из Малого Катехизиса. Фрагмент неизвестного происхождения из Поучения в неделю Пасхи, содержащий побуждение, призывающее помириться друг с другом и со своими врагами, так как Христос даровал нам мир, повторен дословно и в Поучении в понедельник Светлой недели, основанном на словах апостола Павла из первого послания к Фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» 17. Как видим, в данном случае, в Поучении, произносимом в день главного христианского праздника, составитель Патриаршего Гомилиария решил заме- нить толкование евангельского зачала уставным чтением.
Кому были предназначены поучения из Патриаршего Гомилиария? На этот вопрос прежде всего отвечает перечень слушателей, к которым последовательно обращается проповедник в Поучении в неделю первую Великого Поста. Это – архиереи, священники, монахи, «князи и власти», воины, судьи, сборщики налогов («истязающи людьскыа дани»), видные горожане («нарочитии града»), богатые, нищие, и, наконец, «простии людие». Каждой группе слушателей проповедник предлагает особое наставление. Так, например, обращаясь к «князьям» он говорит: «князи и власти <…>, съблюдение имеите о законении, благоразумно устраяе-ми и от сердца подающи любовь богоданному царю нашему. <…> И промышляите о боговеликом граде сем и о прочих градех» (ТСЛ 100. Л. 54 об. – 55). В других поучениях проповедник вновь обращается к разным социальным группам: к священникам (неделя третья по Пятидесятнице), к владыкам и рабам (неделя четвертая по Пятидесятнице), дает наставления жертвующим на строительство монастырей и храмов (неделя двадцать четвертая по Пятидесятнице), обращается поочередно то к архиереям, то к простым слушателям (неделя двадцать восьмая по Пятидесятнице). В Поучении в неделю первую Великого Поста проповедник кроме того говорит о себе от первого лица: «Се и аз днесь многым усръдиемь и теплою, и горящею любовию, яко же длъжен есмь, о празднице семь малаа некая словеса к вашеи любви побеседую» (ТСЛ 100. Л. 44 об.). Там же упоминает он о недавнем столкновении с врагами: «Аще и смути ми, и утесни сердце, и оскорби мя бывшая напасть от нашедших врагов Божи-имь попущениемь грех ради моих, но утешить Господь плачющихся». Если «боговеликий град» – это, несомненно, Константинополь, то проповедь, которую посещают архиереи и «князья» – это скорее всего проповедь патриарха в Соборе святой Софии. Данные о составителе, содержащиеся в самом тексте, таким образом, не противоречат рукописным свидетельствам, называющим автором Патриаршего Гомилиария патриарха Иоанна IX Агапита.
Мы предполагаем, что Патриарший Го-милиарий был создан либо самим патриархом, либо его помощниками из школы проповедников, созданной императором Алексеем Комнином в Константинополе для борьбы с ересью после сожжения вождя бо- гомилов Василия [Angold, 1995. P. 487]. Проповедники из школы разъезжались из столицы Византии по всем регионам Империи – так, печать с надписью «Lewn, maistwr ths scolhs tou Kurikwn» была обнаружена в Болгарии у села Добри-дол [Jordanov, 2001. P. 461]. Патриарший гомилиарий и был, судя по всему, создан, как образцовый сборник ортодоксальных поучений для проповедников. Примерно в XIII в. Патриарший Гомилиарий входит в уставные чтения Иерусалимского Устава 18. Читались его тексты, судя по всему, нараспев (рядом с наименованием каждого из поучений непременно указывался один из восьми гласов), у старообрядцев сохранился чин чтения Евангелия Учительного, в котором интонационно различается чтение отрывков из Евангелия и толкований [Владышевская, 2006. С. 320].
SOURCES AND STRUCTURE OF HOMILIES FROM THE TEACHING GOSPEL