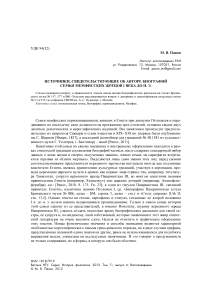Источники, свидетельствующие об авторе биографий семьи мемфисских жрецов I века до н. э
Автор: Панов Максим Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу о правильности чтения имени автора биографических рассказов на стелах Британского музея № 147, 377 и 886. Отдельно рассматривается вопрос о датировке и идентификации владельца статуи № I.1.a.5351 из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, г. Москва.
Птолемеевская эпоха, биографии, первосвященник, мемфис
Короткий адрес: https://sciup.org/14737810
IDR: 14737810 | УДК: 94(32)
Текст научной статьи Источники, свидетельствующие об авторе биографий семьи мемфисских жрецов I века до н. э
Семья мемфисских первосвященников, живших в Египте при династии Птолемеев и передававших по наследству свои должности на протяжении трех столетий, оставила свыше двух десятков демотических и иероглифических надписей. Все памятники происходят предположительно из некрополя Саккары и стали известны в XIX–XXI вв. (первые были опубликованы С. Шарпом [Sharpe, 1837], а последний (контейнер для умащений № 48.1381 из художественного музея Г. Уолтерса, г. Балтимор) – мной [Panov, 2011].
Памятники этой семьи по своему внешнему и внутреннему оформлению находятся в рамках египетской традиции составления биографий частных лиц и содержат стандартный набор данных о датах жизни и смерти, полученных званиях, членах семьи; на саркофагах встречаются отрывки из «Книги мертвых». Выделяются лишь сами звания этих лиц: перед своими соотечественниками представители верховного жречества выглядели иногда как подлинные властители Египта, являясь хранителями культурных традиций, участвуя в коронации, проводя церемонии царского культа в храмах как первые лица страны: так, например, титулату-ра Таимхотеп, супруги верховного жреца Пашринптаха III, во многом идентична званиям правительниц Египта (например, Хатшепсут) или царских дочерей (например, Анхнефсне-ферибра), см.: [Panov, 2010. S. 175. Fn. 23]; а один из титулов Пашринптаха III, «великий правитель Египта», идентичен званию Птолемея I, ср. «Биографию Пашринптаха» (стела Британского музея № 886, далее – БМ, строка 3, далее – стк.) и «Стелу сатрапа» [Urk II, стк. 13,5]. Однако тексты на стелах, саркофагах и статуях, созданные до второй половины I в. до н. э. нельзя назвать выдающимися произведениями. Только в самом конце истории этой семьи одному из ее представителей, а именно Имхотепу, шурину верховного жреца Пашринптаха III, удалось создать несколько ярких биографических рассказов для своей сестры, ее супруга и, по-видимому, свой собственный, которые заканчивают этот жанр египетской литературы на очень высоком слоге. Нельзя не отметить и графическое оформление этих текстов. Новые фонетические значения и способы написания являются характерной особенностью иероглифического письма греко-римского периода, но в ряде случаев графика, представленная подменой одних знаков на другие, ранее не использовавшихся для подобного выражения мысли, уникальна на исследуемых памятниках. И это говорит о продуманности не только содержания, но и формы, в которую оно было облечено.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение © М. В. Панов, 2012
Произведения египетской литературы редко доносят имена (подлинные или приписываемые поздней традицией) своих составителей, гораздо чаще мы встречаемся с именами переписчиков, упоминаемыми в колофонах, а в биографических рассказах – с именами детей, которые позаботились об установлении памятника своим родителям. Надписи на стелах, принадлежащих членам этой жреческой династии из Мемфиса, в большинстве случаев содержат, наряду с именем владельца, упоминания имен его предков с перечислением многочисленных почетных и настоящих титулов и званий. Во всех этих примерах имя автора надписи указывать не требовалось, поскольку большая часть содержания не являлась чем-то особенным. Но есть три текста, которые фиксируют имя их создателя – это стелы Британского музея № 147, 377 и 886 [Reymond, 1981. Pl. XII, XIII, X; Panov, 2010. S. 189–191]. К этим памятникам можно добавить статую № I.1.a.5351 из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина [Берлев, Ходжаш, 2004. С. 384–399; Панов, 2011. С. 387–389; Panov, 2011], которая предположительно принадлежит автору этих трех стел.
Перевод надписей
-
1. БМ 147, стк. 21: «Писец, скульптор, мудрец, посвященный в тайны дома (богини) Шен-таит в (святилище) Чененет, жрец Хора Имхотеп, сын жреца Хахепа, право<гласного>, рожденный Херанх».
-
2. БM 377, стк. 28: «Писец книг бога, отец-бога и жрец Хора Имхотеп».
-
3. БM 886, стк. 16: «Писец, скульптор […] писец слов бога, очень хвалимый у владыки обеих земель, писец книги-бога у (бога) Банебдеда, хентиуше фараона (о титуле см. [PL, 1997. P. 740–741]), посвященный в тайны скрытой комнаты в (святилище) Чененет, жрец Хора Имхотеп, сын такого же по званию Хахепа, правогласного, рожденный Херанх, правогласной. Вырезано (на камне) его старшим [сыном], любимым им, Хахепом».
-
4. ГМИИ им. А. С. Пушкина № I.1.a 5351, стк. А1-3 (номера строк здесь и далее приведены по: [Панов, 2011. С. 387–389]): «Сын жреца-сема, брат великого управляющего мастерами, отец-бога и жрец Хора Имхотеп, правогласный, рожденный владычицей дома, прекрасной формами, музыканшей, Херанх»; стк. С3-4: «жрец-чтец огласит твое имя Осириса, сына жреца-сема, [брата великого управляющего мастерами], отца-бога и [жреца] Хора Имхотепа, рожденного владычицей дома, прекрасной формами, музыканшей, Херанх».
Имя автора
Стелы супругов Таимхотеп и Пашринптаха (БМ 147: (10-й год правления Клеопатры VII) и 886 (12-й год)) известны уже два столетия, и имя их автора в течение этого времени читали по-разному. Первые исследователи надписей С. Бирч [Birch, 1863. P. 335] и Х. Бругш [Brugsch, 1891. S. 927] называли его «жрецом Хора Имхотепом», им следовали и современные египтологи: Э. Отто [Otto, 1954. S. 191], М.Лихтхайм [Lichtheim, 1980. P. 64], Ч. Майстр [Maystre, 1992. P. 420], Б. Окинга [Ockinga, 1988. S. 544], К. Янсен-Винкельн [Jansen-Winkeln, 2004. S. 373]. Иное прочтение имени, звучащее как «Хоримхотеп», было предложено Ж. Ке-жебером [Quaegebeur, 1972. P. 94, n. 96; Р. 102–104], который не отрицал и возможности первоначальной версии. Позднее этого варианта придерживались Е. Реймонд [Reymond, 1981. P. 232] и О. Д. Берлев [Берлев, Ходжаш, 2004. С. 392].
Имя владельца статуи из бывшего собрания В. С. Голенищева (ГМИИ им. А. С. Пушкина, № I.1.a 5351), которая впервые была опубликована Б. А. Тураевым [1917. С. 66–68. Табл. XI, № 1], не сразу было сопоставлено с этими двумя биографиями. Вопрос о датировке предмета остается открытым до сегодняшнего дня, а изучение его содержания и полное издание было осуществлено только в последнее время [Берлев, Ходжаш, 2004. С. 384–399; Панов, 2011. С. 387–389; Panov, 2011]. Так, в «Просопографии» птолемеевской эпохи Х. де Мелинер [PP III, 1956. No. 6042] называет его как Хоримхотеп, брат Таимхотеп, сын Хахапи и Херанх, автор надписей на стелах БМ 147 и 886 (живший в соответствии с данными этих источников в I в. до н.э.). Однако это заключение было опровергнуто Ж. Кежебером [Quaegebeur, 1972.
P. 102–104; 1980. P. 68]. В основу его аргументации легли выводы, сделанные на основе анализа эпитетов, сопровождающих имя матери владельца московской статуи. Так, лестная характеристика «прекрасная формами» была зафиксирована и у Херанх, супруги первосвященника Анемхера II (речь идет об ином поколении этой самой семьи, III в. до н. э.). Владелец статуи назван «правогласным» (т. е. умершим), а у его матери эта характеристика опущена, в то же время на стеле БМ 886, стк. 14 Херанх обозначается «правогласной», а ее сын – нет. Более того, тот факт, что Хоримхотеп назвал себя «сыном жреца-сем», не находил подтверждения в титулатуре Хахапи, отца Таимхотеп, на стелах Британского музея, так как графика титула интерпретировалась в то время как «известный царю». Таким образом, Хоримхотеп был отождествлен как брат первосвященника Хормахета [PP III, 1956. No. 5358], а годы его жизни определены как 250–220 гг. до н.э. Эти выводы были включены в новую версию «Просопографии» птолемеевской эпохи [PP IX, 1981. No. 5460] и в последний том «Топографической библиографии» [PM VIII, 1999. No. 801-795-750]. Однако доказательства Ж. Кежебера небесспорны.
-
1. На стеле БМ 147, стк. 3 у Хахапи указан титул жреца-сем (о чтении см.: [de Meulenaere, 1961]), таким образом, фраза «сын жреца-сем» может указывать на владельца статуи как на сына этого человека. Далее, Танеферетхер, вторая сестра Хоримхотепа, называет себя сестрой первосвященника Мемфиса (БМ 184, стк. 5–6), это утверждение полностью согласуется со стк. А2 на московской статуе, где автор также говорит о себе как о брате первосвященника: в обоих случаях речь может идти о Пашринамоне I, их брате и муже Танеферетхер, что находит подтверждение и в надписи ее сына (стела БМ 188, стк. 5: «было сделано для него (т. е. Имхотепа-Падибаста IV) прекрасное захоронение Пашринамоном (II), сыном брата его матери», т. е. сыном Пашринамона I и братом Таимхотеп, матери Имхотепа-Падибаста IV).
-
2. Отсутствие эпитета «правогласный» не может быть точным указанием того, что упоминаемый в тексте человек был жив, так как известны случаи ошибочного пропуска этого эпитета после имени умершего. Подобное можно обнаружить и в биографиях этой семьи: так, на стеле БМ 188, стк. 4, рассказывающей о смерти и захоронении Имхотепа-Падибаста IV, его отец Пашринптах III не назван «правогласным», хотя оба события происходили после смерти последнего, что достоверно фиксируется другими источниками.
-
3. Словосочетание «прекрасная формами» встречается еще дважды: на саркофаге национального музея древностей г. Лейден № 3 (стк. 3: «прекрасная формами в храме (своего) отца, Херанх, правогласная» [Lanciers, 1991. Pl.2]) и в одной надписи из храма в Эдфу [Edfou I, 1897. P. 329]. Cцена, к которой относится текст на стене храма, изображает Птолемея IV Фи-лопатора стоящим перед Хором Бехдетским и объявляющим о том, что он привел с собой в честь бога все номы. Первым в перечне следует Мемфисский ном, представителями которого являются два нарицательных персонажа, о которых сказано следующее: «“великий управляющий мастерами жрец-сем” исполняет ритуалы для его Ка, а “прекрасная формами” играет на систре перед ним». Оба титула ( wr xrp Hmw sm и nfrt twtw ) написаны без указания конкретного имени (скорее всего, первоначально подразумевались именно супруги Анемхер II и Херанх, современники этого царя), что предполагает возможность распространения титула «прекрасная формами» и на других женщин из этой династии, т. е. нет особых оснований связывать свидетельства лейденского саркофага и московской статуи лишь с супругой Анемхера II. Это косвенно подтверждается и книгой мифов из Дельты (датируется началом VII в. до н. э.), где наряду с богами фигурирует персонаж, называемый как wr xrp Hmw sm «великий управляющий мастерами, жрец-сем» (титул первосвященника), см.: [Meeks, 2006. P. 28, 127 (папирус Бруклинского музея 47.218.84, стк. 13,2)].
Следующим этапом в обсуждении этого человека стало предположение Е. Реймонд [Reymond, 1981. P. 232–233] о значении слова snnw (стк. А1), интерпретируемое всеми предыдущими исследователями как sn «брат», которое могло, по ее мнению, указывать не только на существование кровной связи, но и на партнерство в деятельности, в значении «равный по положению» великому управляющему мастерами. Учитывая вероятность наличия особых обстоятельств, Е. Реймонд предполагает попечительство над юным верховным жрецом Им-хотепом-Падибастом IV и оказание помощи в исполнении его должностных обязанностей со стороны родственника. В своих рассуждениях она опирается на идентичность имени ма- тери, а среди возможных вариантов называет как брата Пашринптаха III, так и брата мужа его дочери Береники (существование этих людей не подтверждено источниками).
В комментариях к изданию первого перевода надписи на статуе О. Д. Берлев [Берлев, Ходжаш, 2004. С. 394] критически подходит к выводу Ж. Кежебера, указывая на отсутствие каких-либо упоминаний о брате Хормахета по имени Хоримхотеп. Он поддерживает суждение Е. Реймонд и на основе сопоставления нескольких памятников предлагает точную датировку статуи, определяя ее владельцем Хоримхотепа как шурина Пашринптаха III, брата Та-имхотеп, о чем уже ранее говорил Н. де Мелинер. По мнению О. Д. Берлева, надпись была сделана в 14-й год правления Клеопатры VII Филопатор, при этом исследователь обсуждает не только хронологию событий, но и причины воздвижения этого памятника. Главное событие, о котором идет речь в тексте, – окончание работ по перезахоронению останков зодчего Имхотепа (представляемого отечественным египтологом в качестве основателя рода мемфисских жрецов) после вступления в почетную должность первосвященника семилетнего Имхотепа-Падибаста IV, племянника Хоримхотепа, опекуном которого и должен был являться последний. Однако эти выводы основаны на спорном переводе (подробнее об этом см.: [Panov, 2011]).
В пользу идентификации владельца московской статуи с автором стел Британского музея свидетельствуют следующие данные в содержании надписи: в стк. В1, по-видимому, упоминаются Таимхотеп и ее сын Имхотеп-Падибаст IV («была у меня (сестра) – дочь прекрасной [музыкантши, у] которой [появился] (божественный) ребенок; в стк. В2 говорится о старшем сыне самого владельца статуи («заступил мой старший сын на место своего отца»), который известен как резчик надписи стелы БМ 886; тождество в имени матери (Херанх); титулы владельца статуи как брата Таимхотеп повторяют титулы ее отца Хахапи; наличие уникального эпитета «глава (искусных) слов» могло быть обусловлено признанием талантов автора текста.
Принимая во внимание большую вероятность идентичности так называемого «Хоримхо-тепа» московской статуи с автором надписей на стелах БМ 147, 377 и 886, следует указать, что имя и звание их автора должно читаться именно как «отец-бога и жрец Хора Имхотеп», так как он был «сыном человека такого же по званию», а именно: «отца-бога и жреца Хора… Хахепа» (стела БМ 886, стк. 13, см. об этом также: [Panov, 2010. S. 184-185]). Соответственно, датировка памятника – это конец правления Клеопатры VII Филопатор или первые годы Октавиана Августа. Чтение имени автора как теофорное (т. е. включающее в себя имя «Хор») и признание этого варианта единственно правильным не находит в содержании текста достаточных оснований. Распространенность упоминаемых на статуе имен и титулов, которая подтверждается документами раннего и позднего птолемеевского периода, позволяет допустить и существование совершенно другого человека, носящего имя Имхотепа.