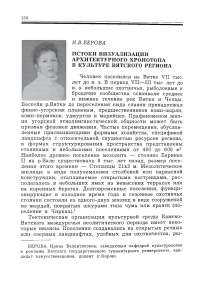Истоки визуализации архитектурного хронотопа в культуре Вятского региона
Автор: Берова Ирина Валентиновна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 2 (55), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются механизмы формирования регионального культурного пространства. Выделены его автохтонность и детерминанты регионального пространственного культурогенеза. Автор объясняет историю культуры и архитектуры региона методами географического детерминизма и диффузионизма, описывает императивы, влияющие на формирование культурного пространства, и роль отдельных регионов в процессах культурной конвергенции.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222940
IDR: 147222940
Текст научной статьи Истоки визуализации архитектурного хронотопа в культуре Вятского региона
Человек поселился на Вятке VII тыс. лет до н. э. В период VII—III тыс. лет до н. э. небольшие охотничьи, рыболовные и бродячие сообщества осваивали среднее и нижнее течение рек Вятки и Чепцы.
Бассейн р.Вятки до переселения сюда славян принадлежал финно-угорским племенам, предшественников коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и марийцев. Прафеноменом жизни угорской этнолингвистической общности может быть призван феномен движения. Частые перемещения, обусловленные присваивающими формами хозяйства, спецификой ландшафта с относительной скудностью ресурсов региона, в формах структурирования пространства представлены стоянками и небольшими поселениями от 400 до 600 м2 Наиболее древнее поселение мезолита — стоянка Баринка II на р.Вале существовало 8 тыс. лет назад, размер поселения этого времени — Степанцы 21x3 м. Мезолитическое жилище в виде полуземлянки столбовой или каркасной конструкции, отапливаемое открытыми кострищами, располагалось в небольших ямах на невысоких террасах или на коренных берегах. Долговременные поселения, функционирующие в холодное время года и сезонные охотничьи стоянки состояли из одного-двух жилищ в виде сооружений из жердей, покрытых шкурами типа чума или яранги (поселение в Чирках).1
Тектоническая организация культурной среды Камско-Вятского междуречья неолитического периода имеет некоторые нюансы. Поселения создавались на открытых речных или озерных ландшафтах, удобных для охотничества, ры-
БЕРОВА Ирина Валентиновна, заведующая кафедрой культурологии и рекламы Вятского государственного гуманитарного университета, кандидат искусствоведения, доцент (г.Киров).
боловства и собирательства. Удачно выбранные территории, образуя микрорегионы, были длительное время обитаемы. Примером может служить территория южнее Нур-гушского заповедника на правом берегу р.Вятки, жизнеспособная на протяжении 6 тыс. лет с эпохи мезолита до раннего железного века2
Представление о планировке неолитического поселка дает полностью раскопанное поселение Моторки II3 Центрическая структура поселения представлена большой постройкой в центре, окруженной сооружениями значительно меньших размеров. Жилища столбовой конструкции под двускатной или шатровой кровлей усложнены своеобразным тамбуром, в стенах имеются ниши-выступы, в которых устраивали хозяйственные ямы. В таком жилище, площадью 13x13 м2, жило до 25 чел. ближайших родственников по материнской линии, сообща ведущих большое хозяйство. Семьи поменьше жили в домах площадью 12x15 м2 Преобладали небольшие стоянки с 1—2 жилищами (Ботыли IV), хотя в низовьях Вятки и ее притоков встречаются большие по площади — 0,5, 1 га (Буй II) и средние — до 1 500 м2 (Моторка II). При обилии постоянных и сезонных поселений во всем регионе Приуралья не найдено ни одного могильника эпохи неолита, известны лишь отдельные захоронения4
Переходный от неолита к бронзовому веку этап (вторая половина III — начало II тыс. до н. э.), получивший название энеолита в археологической хронологии, характеризуется сходными элементами материальной культуры по всей полосе северных лесов Восточной Европы и Северной Евразии5
Достаточно подвижный образ жизни у западных и восточных групп финно-угорского населения, заселившего регион, сопровождался возведением жилищ двух типов: полуземлянки прямоугольные и квадратные по плановой конфигурации. Прямоугольные многокамерные жилища, представляющие жердевую каркасную конструкцию, состояли из 2—3 отдельных помещений, соединенных крытыми переходами, что является их характерной особенностью. Очаги-ямы, наряду с открытыми кострищами, служили для обогрева помещений. Квадратные дома-полуземлянки меньших размеров (от 20 до 80 м2) представляли изолированные помещения с одним входом. Хозяйственные ямы располагались не в жилищах, а на площади поселка, являясь, очевидно, общими. Количество жилищ в поселке по сравнению с предшествующим периодом увеличивалось, в нем может быть от четырех и более домов. Жилища энеолитических поселений, площадью от 30 до 150 м2 могли вмещать до 20 чел. Сами поселения становились более долговременными, основные места их расположения — пойменные террасы.
На рубеже Ш-П тыс. до н. э. в лесную полосу Восточной Европы вторгалась миграционная волна из степных районов Причерноморья, получившая в археологии название «балаковская» (фатьяновская). По мнению многих исследователей, это были племена индо-европейцев, еще не разделившихся на прибалто-словяно-германцев. Они занимали возвышенные участки Вятско-Ветлужского междуречья. Местное финно-угорское население обитало преимущественно в низменном полесье. К середине II тыс. до н. э. племена «шнуровой керамики» и «боевых топоров» из степных районов Причерноморья6 внедрились в среду местного населения. Об этом свидетельствуют поселки, в материальной культуре которых просматриваются смешанные традиции. Пришлое население основало укрепленные поселки на возвышенных местах в бассейнах рек Большой и Малой Кокшаги, на правом берегу р.Пижмы. Поселения из нескольких изолированных наземных и слабо углубленных домов срубной конструкции со следами ям и кострищ занимали вершины холмов, удаленных от рек, и естественно укрепленные мысы берегов рек. Крупные жилища, соединенные крытыми переходами, воспроизводили местные приемы волосовских племен. Небольшие постройки с плоскими кровлями, как тип жилища, были привнесены бала-новцами. Погребения балановцев в виде насыпей и квадратной площадки сохранили следы горения, но без остатков кремации. Синцовский курган на р.Немда представляет насыпь высотой 1,2 м с площадью основания 15x9 м, вокруг которой вырыта круговая канавка глубиной 1 м. Укрепленные мысовые городища, места погребений и могильники балановской культуры соединили местные традиции и индоиранские влияния.
Вторжение сейминско-турбинских племен из Алтая и Западной Сибири в начале II тыс. до н. э. исследователи рассматривают как транскультурный феномен. Эти ираноязычные племена не оказали какого-либо влияния на специфику оформления местного пространства в строительной деятельности, возможно, в силу кратковременности их пребывания в регионе и «уединенного» характера культуры сейминско-турбинских племен. Свидетельствами их пребывания являются могильники, в которых отсутствуют человеческие останки, но находятся предметы бронзового вооружения (Коршуновский клад). Впитав сейминско-тур-бинское влияние, финно-угорские племена продолжили свое развитие.
Специфический массив из 25 курганов, датируемых XIV— XIII вв. до н. э., оставшийся в верховьях рек Малая Кок-шага, Немда, Лаж и Уржумка, очерчивает очаг непродолжительного пребывания на юго-западе Вятского края аба-шевских племен. Эта европеоидная группа племен принадлежала скотоводческому культурному типу с характерным для него кочевым образом жизни и неизбежными при этом военными столкновениями с осевшими здесь балановцами. Курганы абашевцев содержат неглубокие могильные ямы, «кольцевые» оградки из столбов, берестяные подстилки, на которых располагали покойника с согнутыми руками и ногами, голова ориентирована на восток, юг и юго-запад. Отмечены случаи трупосожжения7 Поселения абашевцев до сих пор не выявлены.
Начавшийся с VII в. до н. э. железный век, памятники которого расположены по берегам р.Вятки и ее притокам, определяется исследователями как вятский локальный вариант ананьинской культурной общности (монголо-европеоидный этнический тип), которая легла в основу формирования пьяноборской культуры в бассейне р.Вятки и Нижнего Прикамья (предки удмуртов)8 и гляденовской культуры в Среднем Прикамье на Вычегде и Верхней Печоре (предки современных коми). Ананьинская культурно-историческая общность занимала огромную территорию от Урала до Волги и от Северной Двины и Печоры до Самарской Луки. «Военизация» жизни, усиление роли военного лидера-вождя привели к сооружению укрепленных поселений-городищ, защищенных земляным валом (2—6 м высотой) и внешним рвом (13 м глубиной). В настоящее время известно около 50 поселений ананьинского времени, из которых 17
городищ и 34 селища. По верху оборонительный вал дополнительно укреплялся частоколом или рядами плетня. Погребение лидера-военноначальника позднепьяноборского времени было открыто на Первомайском могильнике (II— III вв.) в Слободском районе, принадлежавшее, несомненно, местному военному предводителю, на что указывает вооружение из железа. Кроме того, в некрополь входили захоронения рядовых воинов и охотников9
Другой неукрепленный тип поселения этого времени — селища, которые располагались на низких террасах и не имели укреплений. Большинство местных селений рассматриваемого времени представлено этой композицией. Территория их распространения — бассейн Средней Вятки.
В пьяноборскую эпоху, культурные слои которой имеются на некоторых городищах ананьинского периода, начинает складываться патриархальный тип культуры с усилением роли мужчины в социальной организации общества, выделением патриархальной семьи и заменой семейной общины соседской. Однако большая семья еще продолжала играть роль социального каркаса коммуникативного единства общества, родовые и племенные группировки только начинали оформляться территориально, о чем свидетельствуют появившиеся нюансы плановой организации жилищ и поселений.
В формировании композиции деревянных изб с тамбуром можно увидеть влияние микенского мегарона. Крепостной характер эгейских поселений с площадью (агорой) в центре (III тыс. до н. э.) также мог оказать влияние на развитие крепостных сооружений ананьинского региона. Влияние южного степного искусства, преимущественно ираноязычного (скифы, сарматы), проникало в местный край через торговые связи со степными народами, о чем свидетельствует декор ананьинских изделий из бронзы, камня, глины и кости, которые несут следы своеобразного звериного стиля. Представление об укрепленном поселке VII—VI вв. до н. э. дает Аргыжское городище площадью в 2 500 м2.
В большинстве случаев сакральная топология сегментировала территорию. Места для некрополей выбирали на берегу реки, погребения ориентировали по течению вниз или на север, чтобы умерший мог уплыть в мир иной, так как по представлениям древних племен, населявших эти земли, мир мертвых находился на севере, и попасть туда можно было лишь спускаясь вниз по реке. Территория могильника центрировалась жертвенником из валунов и плиточника, где проводились обряды. Ручей или река воспринимались как преграда, граница между миром живых и мертвых, которых боялись и пытались задобрить.
В начале I тыс. до н. э. в районе Волго-Вятского региона протекали сложные этногенетические процессы, сопровождавшиеся освоением пространств, занятых лесами. На севере региона происходило разделение финно-пермских и финно-волжских язычников. На пермских языках стали говорить коми и удмурты, на финно-волжских — марийцы. Эпоха «великого переселения народов» (III—IV вв.) на нижней Вятке (Нолинский, Уржумский и Малмыжский районы) отмечена сложением Азелинской культуры (Азелинский могильник, Атамановы кости, Суворовский могильник), являющейся результатом ассимиляции Городецких и местных племен, формирующей промарийский этнос10 Этнические процессы, связанные с развитием азелинских, еманаевских племен на Средней Вятке и поломских на Чепце, явились этноосновой формирования протоудмуртской этнической общности11. Этногенетические импульсы в районе Средней и Нижней Вятки II тыс. н. э. привели к становлению марийского и удмуртского этносов, а сформировавшаяся в результате синтеза гляденовской и местного варианта пьяноборской культурно-исторической общности ломоватовс-кая культура стала базовой структурой этногенеза обще-коми (Омутнинский и Афанасьевский районы).
В VI—IX вв. граница распространения пермского этнического массива сместилась с левобережных притоков Волги к верховьям рек Большой Кокшаги, Немды, Уржумки, что связано с проникновением на соседние территории древнемарийского населения. Граница контактной зоны древнеудмуртских и древнемарийских племен локализовалась на северо-западной границе распространения прауд-муртской общности, где размещалось наибольшее количество городов-убежищ второй половины I тыс. н. э. Население на Средней Вятке не было затронуто древнемарийским влиянием. Нижнюю и Среднюю Вятку с ее притоками на р.Чепце, а также низовья и среднее течение р.Белой, Прикамье в V—IX вв. занимала древнеудмуртская общность. К началу II тыс. н. э. удмуртское население было вытеснено на левобережье р.Вятки, а с XIII в. отток и с этой территории по направлению к р.Чепце был вызван русской колонизацией. Организация левобережной территории р.Вятки во второй половине I тыс., освоенное древнеудмуртским населением, представлено неукрепленными изолированными селищами, располагавшимися вне системы городищ или могильников, не образуя с ними территориально-компактных групп. Селища занимали низкие надпойменные террасы, невысокие берега небольших речек, надпойменные участки. Компактные группы подобных селищ на рубеже I— II тыс. располагались в среднем течении р.Вятки, в бассейнах р.Кильмезь, Вала, Лобань. Наземные прямоуголные жилые постройки, формирующие эти селища, не имели входов-тамбуров. Очаги с каменной обкладкой занимали центр или угол «интерьера». Хозяйственные ямы сооружались за пределами дома на территории поселка. Захоронения проводились по обряду ингумации или кремации. Сожжение производилось в стороне, останки ссыпались в заранее приготовленную яму. При трупоположении умерших укладывали на спину, иногда часть вещей складывали в погребении отдельно, что создавало своеобразный жертвенный комплекс. Дорогие импортные вещи редко встречаются в этих захоронениях, так как р.Вятка не играла роли постоянной торгово-транспортной магистрали Средневековья.
В районе р.Чепцы на рубеже III—IV вв. сформировался новый этнокультурный массив, просуществовавший до IX в., — поломская культура12 Два потока групп переселенцев шло в двух направлениях: с юго-запада на северо-восток и с севера на юг. Жилища поломского населения второй половины I тыс. н. э. — это срубные наземные бревенчатые сооружения без фундамента и углубления-подполья площадью 20—45 м2 и 55—85 м2 Основание сруба закреплялось на земле песчано-гравийной смесью или сухой глиной. С VIII в. появились завалинки вокруг жилых сооружений. Один или два очага из камня на глинобитном основании обогревали помещение, возле которого размещали две-три хозяйственные ямы. Позднее стали сооружать одну крупную яму, выходившую за пределы селения.
Поломское население в начале IX в. расселилось на Вятку и Среднюю Волгу, входя составной частью в формирующуюся волжско-болгарскую этнокультурную общность, другая ее ветвь стала основой формирования так называемой чепецкой культуры, занявшей среднее течение р.Чепцы. Правобережные археологические памятники исследователи относят к поломскому пропермскому населению, левобережные городища — к одной из групп удмуртов Кал-мез13 Другая этнографическая группа удмуртов — Ватка, локализирующаяся в бассейне Средней Вятки, к XIII в. также переместилась в бассейн р.Чепцы. Поселения правобережной Чепцы и ее притоков в начале II тыс. имели рядовую планировку с жилыми сооружениями в два ряда в центральной части и размещением хозяйственных и производственных построек — по краю обжитой территории селения.
Крупнейшим памятником чепецкой археологической культуры является городище Индакар (IX—XIV вв.), расположенное на стрелке мыса с напольной стороны, защищенное валом и рвом с входом у берега реки в пойме. Двухчастная композиция поселения представлена детинцем и посадом, где обнаружены жилые и производственные кварталы. Оборонительные сооружения чепецких городищ выполняли военную функцию. На валах Индакара обнаружены стрелы южного происхождения, явно монгольского облика14 Местная топонимика, связанная с древнейшим временным пластом, указывает на мощные южные ассимиляционные импульсы в процессе формирования в Волго-Вятском регионе этнически сложных, органически переплетенных культур. Можно предположить, что Индакар — «городище индов, синдов», так как название Индии выводится из Синдху «страна р.Инда». Индийская эпическая традиция («Ригведа», «Махабхарата») называет страну Саувиру, которую можно отождествить с Синдой, располагавшейся между р.Индом и ее притоком Джеламом. Другое городище чепецкой археологической культуры в бассейне реки Вятки именуется Дондыкар, т.е. «городище Данды, дандариев», и тут же рядом населенный пункт Донда, Этническое имя дандарии происходит из данд (камыш) + арья («индийские (возможно и иранские) мужи»), т.е. «камышовые арии». Топонимичес-
Заказ № 2806
кие названия позволяют предположить о миграционных потоках с юга. Еще античные историки указывали на индийцев, населявших Крым.
Северную часть территории современной Кировской области в последней четверти I тыс. н. э. занимал формирующийся коми-пермяцкий этнос, оставивший значительные памятники наметившейся системы расселения племен в пространстве региона. Зюздинская группа племен древних коми осваивала этот район с V в. н. э. Слагающаяся на рубеже I—II тыс. н. э. система морфологии транзитных и внутрирегиональных коммуникаций, первоначальные структуры градостроительных типов, как зарождающихся основ будущих центров урбанизации, ясно прочитывается в более тщательно изученной северной части региона. Крупным городищем северного Афанасьевского района является Шудьякар, вокруг которого группируется несколько селищ. Такие «гнезда» располагались вдоль всей Верхней Камы, иногда располагаясь друг от друга на многие десятки километров15. Ярким примером может служить Аверинский комплекс, в который входит городище (Шудья-Кар, конец I — начало II тыс.), два могильника и более 1,5 десятка селищ, функционировавших с VI по XIV вв. Как везде, в Приуралье для укрепленния городищ использовали места с хорошей естественной защитой — высокие мысы, ограниченные с 2—3 сторон оврагами с малодоступными склонами. Городище «Шудья-Кар» расположено в 280 км к юго-востоку от бывшей д.Харино и в 200 метрах от р.Камы. Городище расположено на берегу небольшой речки, окружено глубокими оврагами, с севера насыпано искусственное возвышение высотой до 10 м. Площадь поселения опоясывает земляной вал, в настоящее время высотой 2—3 м. При внушительной высоте на абсолютных отметках более 330 м удачное расположение на береговом рельефе делает его незаметным со стороны р.Камы.
Другой тип поселений северного региона — селища, которые, как и у представителей более ранних культур, располагались в глухих участках леса, в низинах. Опасаясь славянских землепроходцев, местное население было вынуждено часто менять места стоянок. Это во многом определяет примитивность конструкций в организации жилищ. Местные дома строились из леса мелкого диаметрами имели вид шалашей. Сверху покрывались тонкими прутьями и берестой. На зиму устраивались землянки или пещеры по берегам рек. Подобные жилища полов не имели, на землю стелили траву, хвою и сухие листья. Если первоначально огонь для тепла и приготовления пищи разводили прямо посреди пещеры, то в X—XIV вв. организация обжитого пространства усложнилась — стали строить жилища двух типов: срубно-столбовой и столбовой конструкции, наземные, прямоугольные в плане, а очаги получили каменную обкладку. Могильники размещали невдалеке от поселений на высоких террасах, выходящих к реке. Обряд кремации постепенно был вытеснен трупоположением, вещи иногда заворачивали в шкуру или бересту.
Найденные на этой территории клады, основная часть которых датируется IX—X вв., содержат высокохудожественные изделия сасанидских, византийских мастеров-то-ревтов, что свидетельствует о наличии торговых связей со странами Востока. Скорее всего, эта связь осуществлялась через посредничество с Волжской Болгарией, которая осуществляла экономическую гегемонию на пространствах европейского северо-востока16 Отсутствие подобных изделий в погребениях позволяет сделать вывод, что они находились в собственности религиозной общины17
Анализ археологических данных позволяет сделать вывод, что в IX в. Вятско-Камский регион входил в слагающееся единое экономическое пространство, образовавшееся на территории Восточной Европы. Коммуникации с локальными культурами, формирующими этот культурный континуум, строились в основном в процессе осуществления экспортно-импортных операций, поставляя на евразийский рынок пушнину, мед, воск, получая взамен монетное и вещевое серебро. Для потока арабского серебра, хлынувшего в Восточную Европу в конце XIII в., Вятско-Камский регион был далекой окраиной, конечным пунктом распространения арабских дирхемов, западно-европейских динариев (X—X вв.), а с XI—XV вв. и новгородских серебряных платежных слитков18
Начавшееся в X в. проникновение в бассейн Ветлуги— Вятки—Камы славянских импортных вещей, затем отдельных поселенцев стало стержнем дальнейшей этнической истории края. Исследования археологии свидетельствуют, что леса, где издревле обитали финно-угры, не были непроходимыми. Охотники и рыболовы использовали реки не только как источник рыбных богатств, но и как дороги, ведущие в отдаленные уголки, а, согласно мифам, на «тот свет», в преисподнюю. Древние пути сообщения, как водные, так и сухопутные, в которых хорошо ориентировалось местное население, связывали области и народы, относящиеся к разным языковым семьям и культурным традициям (хозяйственно-культурным типам). Охотники севера обменивали добываемые ими ценные меха на продукты скотоводства и земледелия, а начиная с бронзового века — металлургии у своих южных соседей, индоевропейцев (общих предков индийцев, иранцев, греков, германцев и славян). Переплетения этих транспортных коммуникаций еще до массовой славянской колонизации Вятских земель способствовали формированию этнически сложных, органически переплетенных культур, расселению этнических племен в пространстве, оформлению изначальных структур градостроительных типов, зарождению будущих центров урбанизации. Все разнообразие выработанных поселений сводится к двум типам: укрепленные городища и неукрепленные селища. В зависимости от местоположения они делятся на мысовые, расположенные на верхних береговых террасах, и равнинные — на низменных местах, имевшие различные плановые конфигурации.
Для финно-угорских народов характерна система гнездовых поселений, пространственно отражавшая приоритеты наметившихся моноцентрических начал. При этом характерно отсутствие визуальных и структурных связей между деревнями в гнездовых объединениях, что можно объяснить устойчивой тенденцией к оптимизации связи с природой. Тип мысового городища сочетался с городищами, имевшими круговую оборону. Основная масса городищ круговой обороны имела однорядную систему, в чем можно усмотреть отголоски скифских влияний19 Возможно, иранские города, также имевшие круглую форму, могли иметь отношение к появлению типа равнинного центрично-округлого поселения с начала чепецкой культуры, оказав, таким образом, опосредованное влияние на структуру пространственной организации центров жизнедеятельности финно-угров.
Застройка поселений складывалась на основе рядового принципа расположения домов, кругового (вокруг хозяйственного или ритуального центра), кучевого (без видимой регулярности).
В систему фортификационных укреплений, которые появились в конце III тыс. до н. э. (балановская культура), входили земляной город, состоящий из рва, вала; деревянный город, окруженный деревянными стенами (частоколом) на валу; каменный город, укрепленный валом с каменной кладкой. Уникальным памятником каменного города является Чортово городище, расположенное недалеко от г.Елабу-ги. Исследователи связывают это городище с культурой Волжско-Болгарского царства20. Останки этого поселения были описаны в конце XIX в. Крепость располагалась на утесе горы, где до XIX в. на одном из выступах сохранялась каменная двухэтажная башня. Раскопки, произведенные в 1855 г., засвидетельствовали нахождение здесь «целой цитадели, фундамент которой заложен в глубине 5 четвертей. Крепость в виде четырехугольника, обнесенного по углам четырьмя башнями, из коих одна, южная, имела четырехугольную форму. Все башни имели один диаметр, т.е. 2 саж. ... по средине каждой из стен явно замечены ... полубашенки, вырезавшиеся из стен полуовалом. ... Со стороны юго-западного плато горы — три вала ... ров ... в сохранившейся башне внизу были устроены сквозные ворота». Такая крепость могла быть прекрасным сторожевым пунктом. Профессор Эрдман считает, что здесь располагалось капище языческих болгар, где находился оракул и проходили обряды жертвоприношений. Найденные здесь металлические предметы содержат изображение то змеиной, то бараньей головы, — олицетворяющих божество поклонения. Образ змея, возможно, символизировал огонь, что связано с представлениями о нем как о первооснове сотворения и существования мира.
Места свершения языческих обрядов — открытые святилища — мольбища, а также культовые урочища — скалы, рощи, источники. Культовые места формирующихся коми, марийского и удмуртского этносов, говоривших на разных диалектах прибалтийско-финского языка, определяемым местным летописным источником «Повестью о стране Вят- ской» (конец XVII в.) «нудью отяцкой» имели черты сходства, что определялось мифологическими представлениями о мироустройстве»21 Пространственное выражение фактора временной неравномерности культурного развития предполагает существование центра культурной области. Таким культовым центром близкородственных племен, межплеменным языческим святилищем было с.Никулицыно, носившее древнее название Болванский городок. Название населенного пункта позволяет исследователям видеть в нем укрепленное городище с языческим «храмом» и священными реликвиями, подобное елабужскому22 Родовая или племенная молельня — «бызым куала», как свидетельствуют удмуртские легенды, находилась на месте древнего Хлыно-ва. Другим центром усложнившейся пространственно оформленной территории был черемисский г.Кокшагов.
«Доосевое» время в местной истории связано с непрерывным процессом перераспределения территории между племенами, постоянные миграции не способствовали закреплению культур в ландшафтах. При этом вытесняемые племена частично ассимилировались или отодвигались на периферию региона, где осваивали новые территории. Анализ свидетельствует о преемственности типов поселений, городищ, жилищ; использовании пришлыми культурами архитектурно-градостроительных типов коренных культур; смещении прогрессивных и архаичных тенденций, результатом чего стала тенденция накапливания специфических черт по сравнению с предыдущими эпохами и соседями.
Привносимые архитектурно-градостроительные принципы адаптировались и трансформировались под влиянием природного фактора и местной специфики организации жизни. Некоторая эволюционная «беспорядочность» в организации пространства объяснима рациональным учетом природных факторов — рельефа, направления господствующих ветров, что определяло различную ориентацию поселений и формирующих их жилищ, свободу от какого бы то ни было ритма и «красных линий» при постановке домов. Принцип «беспорядочности» в архитектурной культуре дославянско-го периода объясним и воздействием этнических факторов: присущей финно-угорским племенам природосообразностью, стремлением в своей практической деятельности не выходить из круга действительных, интуитивно угаданных или воображаемых природных закономерностей, с которыми согласовывали свои представления о комфорте среды обитания. Природосообразность — общая черта культуры финно-угорских народов, которые сформировались как этносы в условиях Севера, где природа требовала от человека учета своих особенностей как необходимого условия выживаемости. В этот период не было жизненной необходимости объединения в крупные коллективы, что могло стать основанием развития городских центров. Архитектурная организация пространства местного бытования культуры этого времени может быть определена как полицентричная.
Список литературы Истоки визуализации архитектурного хронотопа в культуре Вятского региона
- Гусенцова Г.М. Мезолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1993. С. 220-221.
- Сенникова Л.А. Историко-археологический обзор Камско-Вятского междуречья в древности//Энциклопедия земли Вятской. Киров, 1998. Т. 8. С. 19.
- Голдина Р.Д., Гусенцова Т.М. Поселение Моторки II в нижнем течении реки Волги//Матер, археологических памятников Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1979. С. 83.
- Неолит Северной Евразии. Археология. М., 1996. С. 250
- Мошинская В.И. Древнейшая культура Урала и Западной Сибири. М., 1976. С. 31.