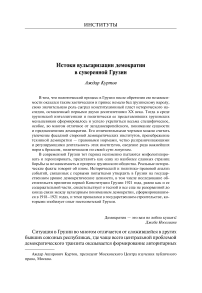Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии
Автор: Куртов Аждар Аширович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Институты
Статья в выпуске: 2, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911873
IDR: 14911873
Текст статьи Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии
В том, что политический процесс в Грузии после обретения ею независимости оказался таким хаотическим и принес немало бед грузинскому народу, свою значительную роль сыграл конституционный пласт исторического наследия, оставленный первыми двумя десятилетиями ХХ века. Тогда в среде грузинской интеллигенции и политически ее представлявших грузинских меньшевиков сформировалось и успело укрепиться весьма специфическое, особое, во многом отличное от западноевропейского, понимание сущности и предназначения демократии. Его отличительными чертами можно считать увлечение фасадной стороной демократических институтов, пренебрежение техникой демократии — правовыми нормами, четко разграничивающими и регулирующими деятельность этих институтов, сведение ряда важнейших норм к броским, политическим по своей сути лозунгам.
В современной Грузии тот период неизменно пытаются мифологизировать и героизировать, представить как одну из наиболее славных страниц борьбы за независимость и прогресс грузинского общества. Реальные исторические факты говорят об ином. Исторический и политико-правовой анализ событий, связанных с первыми попытками утвердить в Грузии на государственном уровне демократические ценности, в том числе исследование обстоятельств принятия первой Конституции Грузии 1921 года, равно как и ее содержательной части, свидетельствует о тесной и все еще не разорванной до конца связи между вульгарным пониманием демократии, сформировавшимся в 1918–1921 годах, и теми провалами в государственном строительстве, которыми изобилует опыт постсоветской Грузии.
Демократия — это вам не лобио кушать!
Джаба Иоселиани
Ситуация в Грузии во многом отличается от сложившейся в других бывших союзных республиках, где чаще всего центральной проблемой демократического транзита оказывается формирование авторитарных
Аждар Аширович Куртов, президент Московского Центра изучения публичного права, Москва.
политических режимов, лишь использующих демократическую оболочку. Для современной Грузии опасен не столько «новый авторитаризм», сколько вульгаризация подходов к демократическому правлению. Ине последнюю роль в этом сыграли исторические особенности становления грузинского конституционализма.
В самом деле, в Грузии положения Конституции и конституционная практика существенно различались отнюдь не только в коммунистическую эпоху. Реальный порядок осуществления государственной власти стал радикальным отклонением от норм Конституции и законов еще в начале прошлого века, несмотря на то, что грузинский конституционализм почти во всех своих главных чертах следовал в русле современных ему конституционных доктрин. В частности, для него было характерно формальное ограничение власти государства. Впрочем, в разные периоды своего развития этот подход реализовывался неодинаково, порой наблюдалось и движение в обратном направлении.
Зарождение грузинского конституционализма
Грузия — одно из древних государств Южного Кавказа. С точки зрения современных грузин истоки их государственности уходят, по сути дела, в мифологическую область. Первым национальным грузинским государством объявляется Колхидское царство, известное лишь по древнегреческому мифу об аргонавтах. В 2000 году в Грузии отметили 3000-летие грузинской государственности. Сама дата была установлена на основе «научного консенсуса» грузинских историков и имела явный идеологический подтекст. В действительности же история Грузии предстает как смена периодов политической самостоятельности и периодов вхождения страны в состав крупных региональных держав.
Законодательство Грузии в разные периоды ее истории было представлено как национальными актами (например, законами Баграта Куропалата или Вахтанга VI), так и нормами метрополий. Некоторые грузинские авторы утверждают, что идея парламентаризма зародилась в Грузии задолго до появления этого института в Западной Европе, приводя в подтверждение такой позиции абстрактные суждения о неких предложениях по разграничению законодательной и исполнительной власти, появившихся в среде крупных феодалов во времена правления царицы Тамары 1. Эти заявления не соот-
Аждар Куртов. Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии 115 ветствуют исторической действительности (по крайней мере, в смысле сравнений с Западной Европой) и отражают типичную для ряда этносов попытку искусственно приукрасить свою историю.
С конца XV века грузинское государство перестает существовать как целостное политическое образование. На месте современной Грузии возникли три отдельных царства — Кахетинское, Картлий-ское и Имеретинское — и пять княжеств: Самцхе-Сатабаго, Гурия, Мингрелия, Сванетия, Абхазия. 24 июля 1783 года 2 правитель царства Картли-Кахетия Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, устанавливавший над его владениями российский протекторат 3. Как считают некоторые грузинские ученые, для Грузии это было актом национального самосохранения 4. Затем в 1801–1804 годах частью России юридически стала Восточная Грузия (Менгрельское и Гурийское княжества), а в 1810 году — Западная Грузия (Имеретинское царство).
Правовое закрепление системы российского управления провинциями Южного Кавказа происходило параллельно с заключением договоров о вхождении этих территорий в состав Российской империи. Наряду с Манифестом 1801 года о вхождении Грузии в состав России, 12 сентября того же года был издан указ «О учреждении внутреннего в Грузии управления». В соответствии с этим актом в Грузии 5 формировалась внутренняя система управления, состоящая из главнокомандующего, правителя и Верховного грузинского правительства из четырех «экспедиций» 6.
Манифест императора Александра I от 12 сентября 1801 года в современной Грузии оценивается преимущественно негативно, поскольку им была низложена грузинская царская династия Багратионов. Именно это обстоятельство, а не рассуждения по поводу того, что присоединение Грузии к России спасло, как писали в прошлом, эту страну от поглощения Османской империей и Сефевид-ским Ираном, актуализируется в сегодняшней Грузии. Как считают некоторые местные авторы, Россия покусилась на грузинскую государственность как таковую, чего, якобы, не делали другие исторические враги Грузии 7.
Став частью России, Грузия разделила российские особенности формирования общественных отношений в целом, подходов к феномену демократии, в частности. Через Россию грузинская элита получила европейское образование и культуру. Кавказ перестал быть регионом, где закон и мир были лишь предметом мечтаний жителей, изнывавших от постоянных войн, грабежей и межплеменной вражды. Но в некоторых отношениях монархическая власть российских императоров сдерживала развитие общества. В условиях самодержавия прогрессивные политико-правовые идеи не могли претвориться в жизнь. Лишь начиная с 1905 года, элементы современного конституционализма стали воплощаться в нормы законодательства. Свидетельством тому — Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года 8, Закон «Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 года 9 и новая редакция Основных законов от 23 апреля 1906 года 10. Либералы считали, что с опубликованием Манифеста российский абсолютизм отошел в область истории, а Россия превратилась в конституционную монархию 11. Однако не все подданные империи были согласны с этими оценками. Социалисты, в том числе и меньшевики, преимущественно отрицательно отнеслись к принятым документам.
Так или иначе, но после 1905 года в империи появились возможности для формирования политически активных национальных движений. По подсчетам историков, до марта 1917 года в России действовало до 45 общероссийских партий и около 160 национальных партий и движений 12. Среди них — политические объединения и партии, выражавшие национальные, конфессиональные и региональные интересы. При этом на Кавказе расширение политических свобод сопровождалось бурным экономическим ростом. Одним из показателей этого процесса стало прекращение эмиграции в Турцию.
Российские либералы, исповедовавшие принципы конституционализма, стремились достичь вполне определенных целей: ограничить самодержавие, добиться политической свободы, учредить народное представительство и принять конституцию. Достичь этого они желали исключительно мирными, легальными средствами. Русская интеллигенция, в массе своей поддержавшая либералов, была хорошо знакома с теорией и практикой немецкого, английского и французского парламентаризма. Правоведы — сторонники прогресса связывали с демократией концепцию разделения властей, теории народного представительства и «правового государства». Заимствованная у немецких авторов, последняя теория легла в основание политической программы партии кадетов.
В Грузии же в тот период была популярна Российская социал-демократическая рабочая партия. Именно ей принадлежало основное представительство от Грузии в Думах двух первых созывов. В свою очередь, Партия социалистов-федералистов Грузии отстаивала идею создания всероссийской федерации и вхождения в нее Грузии как национальной территориальной автономии 13. Первая партийная конференция грузинских социалистов-федералистов, проходившая в Женеве в 1904 году, подчеркивала в своей резолюции: «Грузинская конфедерация, отвергая сепаратизм как форму, еще не являющуюся лучшим залогом ни свободного культурного развития нации, ни солидарности между народами, признает, что для освобождения Грузии самым лучшим необходимым политическим строем является автономная Грузия, федеративно объединенная с остальными национальностями России» 14. Однако в работах свидетелей той эпохи встречаются утверждения о том, что «идеи сепаратизма процветали среди части грузинской интеллигенции и руководящих кругов Грузии еще до войны 1914 года. В среде грузинской интеллигенции еще за много лет до начала этой войны, во время празднования столетнего юбилея присоединения Грузии к России, раздавались голоса, что Россия вероломно попрала права грузинского народа, установленные актом о присоединении Грузии к России» 15.
Крушение Российской империи — шанс для рывка к демократии?
Новый этап развития Грузии был связан с распадом Российской империи, начало которому было положено в феврале 1917 года отречением от власти императора Николая II. Собственно, крушение империи и открыло простор для развития современного грузинского конституционализма. Стоило бы намеренно подчеркнуть это обстоятельство, поскольку в конце ХХ века в своей практике грузинский законодатель не раз будет возвращаться к этим событиям, давая им своеобразную интерпретацию. Значительное место в нормативных актах новейшего периода истории займут утверждения о том, что Грузия, только обретя независимость, получила возможность приобщиться ко многим ценностям и достижениям цивилизации, в том числе и к практике демократии. Отсылки лишь к некоторым событиям 1918–1921 годов, произвольно выбранным из всей совокупности событий того времени, стали для грузинского законодателя краеугольным камнем многих конституционных актов. В действительности становление демократии в Грузии происходило в тот период отнюдь не изолированно от событий в России. Грузинский конституционализм никак нельзя представлять как исключительно грузинский, явившийся на пустом месте как deus ex machina либо развившийся из наследия предков. Многое из того, что появилось тогда в области конституционного строительства в Грузии, было так или иначе связано с конституционными идеями и политической практикой, актуализированными подготовкой к созыву Всероссийского Учредительного собрания 16.
После Февральской революции 1917 года идея созыва Учредительного собрания, основанного на началах всеобщего, равного и прямого избирательного права, оказала мощное влияние на мировоззрение самых разных политических сил на всем пространстве бывшей Российской империи. Прогрессивным был сам подход к формированию органа, который должен был стать механизмом разумного компромисса, способного возобладать над узкопартийными интересами и амбициями. Примечательно, что в ходе обсуждения 17 будущих положений о выборах в Учредительное собрание высказывались идеи о том, что на Кавказе выборы на основе пропорциональной избирательной системы позволят примирить разные национальности и обеспечить их представительство 18. При этом сторонники конституционного развития России исходили из того, что для новой России может быть приемлема только та избирательная система, которая, с одной стороны, с исчерпывающей полнотой будет обеспечивать в Учредительном собрании представительство всех существующих в России политических, национальных и иных группировок, даже если они не слишком значительны по своему численному составу. С другой стороны, российские конституционалисты ставили перед собой задачу создания такого избирательного механизма, который был бы несложен в техническом отношении и позволил бы приступить к выборам Учредительного собрания в максимально короткие сроки 19.
Уже тогда велись жаркие споры между сторонниками мажоритарной и пропорциональной систем выборов. Сторонники первой указывали, что в России население малокультурно, политически безграмотно, партийная система развита слабо. Мажоритарная же система выгодна своей технической простотой и дешевизной проведения выборов. Кроме этого, ее сторонники апеллировали и к такому весомому аргументу: тогда эта система почти повсеместно господствовала в Европе, пропорциональная же применялась только в нескольких государствах, небольших по территории и населению и имеющих к тому же большой опыт парламентаризма (например, в Бельгии и Швейцарии). И все-таки победила точка зрения сторонников пропорциональной системы. Если бы этого не произошло, то
Аждар Куртов. Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии 119 и развитие демократии в Грузии в 1917–1921 годах было бы наверняка иным. По положению о выборах в Учредительное Собрание 20, утвержденному 2 августа 1917 года, был образован Закавказский избирательный округ в составе Бакинской, Елисаветпольской, Кутаисской, Тифлисской и Эриванской губерний, Батумской и Карсской областей, Сухумского 21 и Закатальского округов. Закавказская центральная по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия располагалась в Тифлисе, были образованы также областные, городские, уездные, окружные и участковые комиссии.
Любопытны результаты выборов в Учредительное собрание, проходивших с 12 ноября по 2 декабря 1917 года (по новому стилю), в целом по России и по Закавказскому избирательному округу.
В выборах по России в целом приняли участие 48 514 763 избирателей. Больше всех голосов получили эсеры (39,76%), большевики (22,65%) и кадеты (4,50%) 22. В Закавказском же избирательном округе результаты выборов во многом отличались от общероссийских (табл. 1). Здесь избиратели поддержали в основном социалистов из местных национальных партий. Эсеры смогли добиться всего одного мандата, аналогичная история произошла с большевиками 23. Но едва ли не самым важным было то, что выборы показали: в крае ука-детов нет сколько-нибудь весомой поддержки. Член партии кадетов Б. Байков писал в своих мемуарах, что партия сделала в Закавказье все для мобилизации своих избирателей. Но за кадетский список было подано всего 36 тыс. голосов, тогда как избирательный метр 24 определялся в 40 тыс.25 Поскольку в России кадеты были наиболее последовательными сторонниками развития идей и практики демократии и конституционализма 26, итоги выборов в Закавказском избирательном округе свидетельствовали о том, что эти идеи не получили там большого распространения, а их место заняли другие ценностные установки. Это обстоятельство означало, что развитие демократии в Грузии не соответствовало западноевропейским стандартам.
Попытки строительства государства в условиях военных конфликтов
Конфликт большевиков с Учредительным собранием сыграл трагическую роль в истории страны. В разных частях России стали создаваться автономные законодательные собрания и правительства. Этим постарались воспользоваться государства, находившиеся в со-
Таблица 1
Результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в 1917 году по Закавказскому избирательному округу
|
Организация |
Подано голосов |
Получено мандатов |
|
|
количество |
% |
||
|
Российская социал-демократическая рабочая партия (объединенная) |
661934 |
26,98 |
9 |
|
Российская партия социалистов-революционеров |
117522 |
4,79 |
1 |
|
Российская трудовая народносоциалистическая партия |
514 |
0,02 |
0 |
|
Дашнакцутюн, Мусульманский социалистический блок, Азербайджанская социал-демократическая группа «Гуммет» |
825672 |
33,66 |
9 |
|
Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков |
93581 |
3,81 |
1 |
|
Конституционно-демократическая партия России |
25673 |
1,05 |
0 |
|
Буржуазные партии |
728206 |
29,69 |
6 |
|
Всего |
2453 102 |
100 |
26 |
Составлено по: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1810. Оп. 1. Д. 487. Л. 156–157; Д. 455. Л. 99–103.
стоянии войны с Россией. В водоворот событий была вовлечена и Грузия.
8 ноября 1917 года в Сухуми был проведен съезд абхазского народа 27, принявший Декларацию и Конституцию Абхазского Народного Совета и создавший реальный орган власти 28. В феврале 1918 года 29 Абхазский Народный Совет заключил соглашение с исполнительным комитетом Национального Совета Грузии. Согласно договору, внутреннее управление в Абхазии принадлежало Абхазскому Народному Совету, а при правительстве Демократической Республики Грузии учреждался пост министра по делам Абхазии 30. Но в июне 1918 года грузинские войска оккупировали территорию Аб- хазии
Непосредственно в Грузии события развивались не менее драматично. Осенью 1917 года Закавказье оказалось фактически отрезанным от остальной территории Российского государства. Железнодорожное сообщение было прервано. Части Кавказской армии, воевавшей против турецких войск на юге, стремительно разлагались. Солдаты целыми подразделениями бросали фронт, занимались грабежами, ввязывались в конфликты с местным населением. Порядок попытался восстановить Закавказский комиссариат, сформированный 24 ноября 1917 года в Тифлисе. В декларации Комиссариата от 18 ноября отмечался временный характер его власти. Она должна была существовать «лишь до созыва Всероссийского Учредительного собрания, а в случае невозможности его созыва она сохраняет свои полномочия до съезда членов Учредительного собрания от Закавказья и Кавказского фронта» 32.
28 ноября 1917 года Комиссариат взял на себя всю полноту правительственной власти в пределах Закавказского края. В январе 1918 года, после разгона Учредительного Собрания в Петрограде Закавказский комиссариат решил созвать Сейм — временный парламент, которому предстояло определить порядок управления краем и сформировать краевые органы власти. Позднее в своих мемуарах Н. Жордания, обосновывая это решение, отрывавшее Закавказье от Советской России, напишет: «После разгона Учредительного собрания мы остались одни и должны были думать о себе. Это означало практически выделение из состава России и создание нашей жизни по собственному нашему усмотрению» 33. Сейм открылся 10 февраля 1918 года в Тифлисе. Его возглавил один из лидеров российских меньшевиков Н. Чхеизде — бывший председатель Петроградского совета и глава Президиума Всероссийского ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов.
После получения известий о заключении большевиками мирных соглашений Закавказский сейм отказался принять условия Брестского договора. Выступая в Сейме 15 февраля 1918 года, Н. Жорда-ния заявил: «Такой мир, какой подписали большевики, мы такого мира не подпишем, и мы считаем, что лучше умереть с честью на посту, чем опозорить и предать себя на проклятие потомков» 34. Сейм опрометчиво решил продолжать войну «силами закавказской демократии». Наспех сформированные воинские части Закавказья были быстро разгромлены, турки уже 1 апреля вступили в Батум. Турецкая армия заняла не только Батум и Карс, но также Ахалцих, Озуге-ти, Ардаган, часть территории Армении. Угроза захвата нависла над
Тифлисом и Кутаиси 35. Османское правительство откровенно дало понять, что главным условием переговоров о мире является провозглашение независимости Закавказья. Турки надеялись окончательно оторвать край от России и установить над ним свой контроль, не без оснований полагая, что без России Закавказье станет легкой добычей.
Именно в таких условиях 9 апреля 1918 года Сейм провозгласил создание нового государственного образования — Закавказской Федеративной Демократической Республики (ЗФДР). Представительным органом в ней был Закавказский Сейм, исполнительным — Закавказский комиссариат. Фактически обязанности президента ЗДФР достались Н. Чхеидзе, председателем ее Временного правительства стал А. Чхенкели, а председателем Закавказского комиссариата — Е. Гегечкори.
В состав Сейма вошли 125 депутатов. Меньшевики имели 32 мандата, мусаватисты — 30, дашнаки — 27, социалисты-революционеры — 19, большевики — 4 мандата 36. Но большевики от своих депутатских мандатов отказались, так как посчитали сейм неправомочным органом. Сейм действительно не был избран в подлинном смысле слова на выборах 37, а сформирован на основе результатов выборов депутатов во Всероссийское Учредительное собрание от Закавказья. В нем оказались как избранные депутаты, так и те, кто был включен в списки, но не прошел по итогам голосования. Учредители просто увеличили состав депутатского корпуса в три раза и распределили мандаты пропорционально численности поданных на выборах голосов. Легитимность такого подхода была более чем сомнительной.
Как Сейм, так и Закавказский комиссариат отказались признать власть Совета Народных Комиссаров (СНК) в Петрограде. Сейм объявил ЗДФР временно независимым (от большевистской власти) образованием 38. Параллельно большевики, совсем немногочисленные в Закавказье и по большей части находившиеся в Баку, провозгласили установление советской власти. На съезде солдатских депутатов под руководством С. Шаумяна был избран собственный орган власти — Ревком. Началась борьба за Закавказье, осложнявшаяся присутствием в регионе армий иностранных держав — Германии, Турции и Великобритании. Именно они во многом решали судьбу обретших позже независимость новых закавказских государств — Грузии, Армении и Азербайджана.
6 мая 1918 года в Батуме открылась мирная конференция делегаций Закавказья, Турции и Германии. Турецкую делегацию возглавлял министр иностранных дел и юстиции Халил-бей, германскую — представитель германского командования при турецком правительстве генерал-майор Отто фон Лоссов, закавказскую — Чхенкели. Представители Закавказья от Грузии и Армении надеялись на помощь германской делегации, представители Азербайджана ориентировались на Турцию, рассчитывая с ее помощью освободить захваченный большевиками Баку. Интересы трех субъектов Закавказской Федерации все более расходились.
Ободренная своими военными успехами, Турция в ходе переговоров предъявила гораздо более тяжелые условия, чем предусматривал Брест-Литовский договор. Закавказье должно было уступить две трети Эриванской губернии, Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии, под турецкий контроль переходила Закавказская железная дорога. В правительственных кругах Турции выявились три позиции по вопросу об отношении к Закавказской Республике. Сторонники первой во главе с Вехиб-пашой считали, что во время переговоров надо придерживаться условий Брест-Литов-ского договора; сторонники второй, возглавлявшиеся Талаат-беем, рассчитывали отнять у Закавказья и другие территории; сторонники третьей, группировавшиеся вокруг Энвер-паши, требовали присоединения к Турции всего Закавказья 39.
Грузинские делегаты начали тайные консультации с германскими представителями. Германский канцлер граф фон Гертлинг и фельдмаршал Людендорф склонялись к тому, чтобы предоставить Грузии «покровительство» Берлина 40. Один из руководителей германского МИДа Симонс даже полагал, что, «если бы не географическая удаленность Грузии, ей правильнее всего было бы вступить в германскую федерацию» 41. Получив «добро» Берлина, генерал фон Лоссов посоветовал грузинским политикам быстрее провозгласить независимость Грузии. Генерал подчеркивал: это единственная возможность предотвратить дальнейшее продвижение турецких войск. 22 мая 1918 года Жордания отправился в Тифлис для того, чтобы подготовить акт о независимости Грузии. Но османское правительство, вероятно, почувствовало подвох. Вечером 26 мая Халил-бей передал закавказской делегации ультиматум: турецкая сторона требовала принять ее условия в течение 72-х часов. В противном случае наступление турецких войск на Тифлис должно было возобновиться.
Дипломатически турок удалось переиграть. Вечером 26 мая закавказские делегаты получили долгожданную телеграмму из Тифлиса: «Сегодня в пять часов пополудни Национальный Совет провозгласил Грузию независимой республикой... Закавказский Сейм признал себя упраздненным, и единство Закавказья прекратилось». В решении Сейма говорилось: «Ввиду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные расхождения между народами, создавшими Закавказскую Независимую Республику, и потому стало невозможно выступление одной авторитетной власти, говорящей от имени Закавказья, Сейм констатирует факт распадения Закавказья и слагает свои полномочия» 42. За четыре часа до предъявления турецкого ультиматума Закавказская Федерация официально перестала существовать. Турецкие дипломаты немедленно были поставлены в известность, что ультиматум, адресованный правительству Закавказской Федеративной Демократической Республики, не может быть вручен ввиду ее распада. 27 мая 1918 года фракция мусаватистов Закавказского Сейма приняла решение о выходе Азербайджана из ЗФДР, 28 мая Азербайджанский национальный совет провозгласил Азербайджанскую Республику. В тот же день Армянский национальный совет заявил о создании независимой Республики Армении. Закавказская Федерация распалась окончательно 43.
По Брест-Литовскому мирному договору Закавказье входило в сферу германо-турецкой оккупации. Ситуация изменилась после капитуляции Турции 30 октября 44 и Германии — 11 ноября 1918 года. На Кавказе появились английские войска 45, которые, хотя и провозглашали целью своего пребывания в регионе обеспечение тылов Белой армии и восстановление Российской империи в границах 1914 года, на практике преследовали собственные геополитические цели. В октябре — ноябре 1918 года англичане вошли в Батум, Баку и Тифлис. К концу декабря в Грузии было уже около 25 тыс. английских войск и 60 тыс. во всем Закавказье. В августе 1919 года в Тифлисе была учреждена британская миссия во главе с Верховным комиссаром О. Уордропом.
Целью Великобритании в тот период было расчленение территории Османской империи, в том числе передача Армении части восточных вилайетов Турции. Однако все попытки Лондона заручиться поддержкой США и Италии потерпели фиаско — эти державы отказались посылать свои войска на Кавказ. Возрождение же Российской империи как геополитического соперника Британской империи не входило в планы политиков в Лондоне. Да, белым, в том числе ар- мии Деникина, англичане помогали в борьбе с большевиками 46. Но как только стало очевидным, что эта борьба проиграна, Великобритания начала вывод своих войск из Закавказья. Поддерживать ценой жизней собственных солдат независимые от России государства никто из стран Антанты не желал. Грузия реально находилась на периферии внешнеполитических интересов Лондона.
Выстояв в тяжелых сражениях на бесчисленных фронтах 1918– 1919 годов, российские большевики перешли в наступление. В начале 1920 года под их руководством были созданы национальные большевистские партии, деятельность которых координировало Кавказское бюро РКП (б). Своей задачей эти партии провозгласили установление советской власти в Закавказье. В январе Кремль в официальной ноте потребовал от Грузии и Азербайджана заключить с Россией военный союз, направленный на подавление контрреволюционного движения на Северном Кавказе. После того как эти предложения были отвергнуты, началась подготовка к военному захвату закавказских государств.
В Грузии же времени гражданской войны ситуация была крайне запутанной. Некоторые очевидцы событий давали нелестные характеристики законодательной деятельности властей самостоятельной Грузии. Так, принятый тогда закон о подданстве был в конце концов отозван правительством Е. Гегечкори, поскольку знание грузинского языка уже в тот период использовалось как средство для вытеснения с государственной службы всех негрузин 47. В политическом же плане действия властей Грузии никак нельзя однозначно квалифицировать как стремление к демократии. Они стремились аннексировать ряд соседних территорий, включая Адлер и Сочи, в декабре 1918 года развязали войну с Арменией из-за принадлежности Борча-линского и Ахалкалакского уездов и района Лори. Тогда же проживающих в республике мужчин-армян от 18 до 45 лет объявили военнопленными и пытались интернировать в специальные лагеря под Кутаиси. В 1919 году у русских отобрали их кафедральный собор в Тбилиси 48. Сопротивление других этнических групп жестоко подавлялось. И все это делалось при весьма скромном численном преимуществе грузин относительно национальных меньшинств, проживавших в республике 49.
Практическая политика не в полной мере соответствовала теоретическим взглядам самих грузинских меньшевиков по национальному вопросу. Известна резолюция, принятая VI съездом меньшевиков Закавказья в июне 1917 года. В ней указывалось, что границы терри- ториального самоуправления должны устанавливаться по принципу реального расселения той или иной национальности; при этом принимались во внимание хозяйственные и бытовые условия: «При сдвиге национальных границ должен быть проведен референдум в тех местностях, кои являются спорными при определении границ» 50. Сохранился и другой документ — решение совещания наци-онал-демократов, меньшевиков и социалистов-федералистов по национальному вопросу, состоявшегося 16 апреля 1917 года в Тифлисе; на нем представители трех партий, обсудив вопрос о границах Грузии, приняли тезис о ее бесспорных и спорных территориях. Бесспорными решили считать территории, где грузины составляли большинство населения, спорными — окраинные районы, где грузины не были в большинстве. Вопрос о будущем устройстве спорных территорий должен был решаться демократическим образом — опросом местного населения или референдумом 51. На деле же грузинские политики руководствовались доводами об исторической принадлежности территории.
С 20 ноября 1917 года по 18 октября 1918 года в Грузии 52 функции представительного и законодательного органов исполнял Национальный совет, с 18 октября 1918 по 12 марта 1919 года называвшийся Парламентом 53. Выборы в этот орган происходили по правилам пропорционально-списочной избирательной системы 54. Причем списки кандидатов в депутаты составлялись не в национальном масштабе, а по каждому избирательному округу в отдельности. Партийный состав Национального совета, хотя и представлял разные оттенки политического спектра, был преимущественно социалистическим (табл. 2). Современники указывали, что установки самой сильной политической партии Грузии, социал-демократов (меньшевиков), фактически предопределили отделение Грузии от России. Меньшевики полагали, что посредством этого «Грузии удастся избегнуть общей с Россией участи» 55.
Естественно, что в сложных условиях военных действий Национальный совет (Парламент) не мог заниматься полноценным конституционным строительством. Однако идея разработки собственной политико-правовой базы грузинской государственности не была забыта. Одним из первых документов конституционного характера явился Акт независимости Грузии, принятый Национальным собранием 26 мая 1918 года. В этом документе провозглашалось образование Грузинской Демократической Республики. После принятия Акта руководство Грузии столкнулось с территориальными притяза-
Таблица 2
Состав Национального Совета Грузии, избранного в 1917 году
|
Организация |
Мандатов |
|
|
количество |
% |
|
|
Социал-демократическая рабочая партия |
65 |
47,4 |
|
Партия социалистов-революционеров |
11 |
8,0 |
|
Партия социалистов-федералистов |
16 |
11,7 |
|
Национал-демократическая партия |
16 |
11,7 |
|
РДП |
3 |
2,2 |
|
Беспартийные |
2 |
1,5 |
|
Национальные меньшинства |
14 |
17,5 |
|
Всего |
137 |
100,0 |
Составлено по: Уратадзе Г. И. Образование и консолидация Грузинской демократической республики. Мюнхен, 1956. С. 88.
ниями со стороны ряда соседних государств, отчасти, впрочем, само инициировав их появление. Для обеспечения безопасности нового государства были приглашены иностранные войска — сначала немецкие, а затем английские.
Осенью 1918 года в руководстве Грузии созрело решение о создании нового представительного органа — Учредительного собрания на 156 мест. 130 депутатов должны были избираться в него по округам на пропорционально-списочной основе, еще 26 мандатов — замещаться посредством кооптирования представителей национальных меньшинств (по закону от 15 октября 1918 года). Выборы состоялись 16 февраля 1919 года и принесли убедительную победу социал-демократам, получившим в результате полную свободу рук в конституанте (табл. 3). Грузинский политик в эмиграции З. Авалов писал по этому поводу, что «Грузия имела в лице своего правительства и в образе Учредительного собрания простую креатуру партийной организации... Грузинская демократия 1918–1921 гг., бывшая формой диктатуры социал-демократии, т. е. марксизма правого крыла, являлась периодом подготовительным к торжеству в Грузии
Таблица 3
Результаты выборов в Учредительное собрание Грузии 16 февраля 1919 года
|
Организация |
Подано голосов |
Получено мандатов * |
|
|
Количество |
% |
||
|
Социал-демократическая рабочая партия |
409 766 |
109 |
83,8 |
|
Партия социалистов-революционеров |
20 000 |
5 |
3,8 |
|
Партия социалистов-федералистов |
33 721 |
8 |
6,2 |
|
Партия левых социалистов-революционеров |
1616 |
0 |
0,0 |
|
Русская социал-демократическая партия |
799 |
0 |
0,0 |
|
Дашнакцутюн |
2353 |
0 |
0,0 |
|
Национал-демократическая партия |
30 154 |
8 |
6,2 |
|
Мусульманская национальная партия |
60 |
0 |
0,0 |
|
Партия Шота Руставели |
51 |
0 |
0,0 |
|
Борчалинцы |
77 |
0 |
0,0 |
|
Эстеты |
53 |
0 |
0,0 |
|
Греки |
14 |
0 |
0,0 |
|
Беспартийные |
795 |
0 |
0,0 |
|
Всего |
480 000 |
130 |
100,0 |
* Современные авторы приводят несколько иные данные: социал-демократы — 108 мандатов, социалисты-федералисты — 9 мандатов, национальные демократы — 8 и эсеры — 5 мандатов. См.: Бердзенишвили Д., Сакварелидзе Ф. Особенности политического процесса в постсоветской Грузии // Центральная Азия и Кавказ, 2001. № 6. С. 82.
Составлено по: Кавказское слово, Тифлис, 1918, 21 февраля.
диктатуры советской» 56. Стоит отметить, что абхазы выборы бойкотировали 57. Созданный в Южной Осетии Национальный Совет также отказался от выборов в Учредительное собрание 58. Почти все должности в армии, правительстве и администрации Грузии достались меньшевикам, многие из которых были в свое время депутатами Государственной думы и Учредительного собрания России. На высших государственных постах оказались в основном имеретинцы 59. Председателем Учредительного собрания стал Н. Чхеидзе.
В 1919 году состоялись выборы и в Абхазское Народное Собрание, а также в органы местного управления во многих городах и районах Грузии.
В современной Грузии политики особенно любят вспоминать эпизод с заключением договора между Грузией и большевистской Россией, забывая, что для большевиков право в цивилизованном смысле этого понятия не имело никакой ценности. РСФСР действительно признала суверенитет Грузии в заключенном 7 мая 1920 года мирном договоре 60. В ст. 1 договора так и было записано: «Россия безоговорочно признает независимость и самостоятельность Грузинского государства и отказывается добровольно от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к грузинскому народу и земле». К этому договору прилагался секретный протокол, по которому грузинское правительство обязалось не препятствовать деятельности большевиков в Грузии 61.
Независимость Грузии была признана лишь немногими европейскими государствами. Показательна позиция Великобритании. 11 февраля 1920 года МИД Великобритании подготовил меморандум «Закавказье и эвакуация Батума». В этом документе отмечалось, что британское правительство признает Грузию, Армению и Азербайджан де-факто и будет обеспечивать правительства этих государств оружием и боеприпасами, чтобы «противостоять наступлению большевиков и немедленно эвакуировать английский гарнизон из Бату-ма» 62. Но попытка Грузии вступить в Лигу Наций оказалась неудачной, 16 декабря 1920 года Лига Наций отказалась ее принять 63.
Первая Конституция Грузии: дитя необходимости
Еще раз подчеркнем: в условиях разразившейся гражданской войны и военной интервенции, в том числе и на грузинской территории, процесс правового оформления демократии и конституционного строя республики не был и не мог быть быстрым. Лишь после разгрома Красной Армией формирований Деникина и Врангеля и вывода из республики летом 1920 года английских войск в Грузии смогли принять первую Конституцию республики. Это произошло 21 февраля 1921 года на основе решения Учредительного собрания.
Появление этого документа было вызвано исключительными обстоятельствами — и скорее внешними, чем внутренними. К началу 1921 года победа большевиков на большинстве фронтов гражданской войны стала очевидным фактом. Наиболее боеспособные противники советской власти были разгромлены. Очевидно было и то, что большевистское руководство в Москве не смирится с потерей Кавказа. Всего через четыре дня после принятия Конституции, 25 февраля 1921 года, боевые части 11-й Красной Армии вступили на территорию Грузии 64.
Грузинские политики стремились во что бы то ни стало принять Конституцию в надежде (как позднее выяснилось — напрасной), что этот шаг обеспечит им легитимность, сочувствие и помощь западных держав в борьбе против большевиков. Логику поведения руководства Грузии в тот период как нельзя лучше характеризует следующий факт. В марте 1921 года, предчувствуя свое неминуемое падение, правительство Грузии, по свидетельству английских источников, предложило туркам оккупировать Батум, с тем чтобы грузинская администрация могла остаться у власти в этой области 65. Иными словами, повивальной бабкой грузинского конституционализма стала политическая необходимость момента, и это, конечно же, наложило отпечаток на Конституцию 1921 года.
Представляется сомнительной точка зрения современных грузинских политиков и исследователей, утверждающих, будто эта Конституция была прогрессивным, юридически хорошо проработанным документом. По ряду принципиальных положений Основной закон Грузии явно отклонялся от мировой практики — например, в отношении установления определенной формы правления (не предусматривалось введение поста главы государства) или по вопросам национально-государственного устройства (Конституционная комиссия Учредительного собрания Грузии без обсуждения отвергла разработанный Национальным Советом Осетии «Проект Конституции Юго-Осетинского Кантона») 66.
Конституция 1921 года 67 состояла из 17 глав и 149 статей. Спешка законодателя видна даже при поверхностном знакомстве с текстом Конституции. Многие нормы сформулированы не просто лаконично, а чрезмерно кратко, что усиливало их декларативный характер, не позволяло превратить их в работающий юридический механизм.
Анализ норм главы 3 Основного закона 1921 года, посвященной правам граждан, подтверждает этот вывод. Более того, этот анализ дает основания для утверждения, что в то время грузинские законода- тели напоминали революционеров других стран, в частности России периода Временного правительства. Об этом говорят формулировки сразу нескольких статей. Многие из них представляют собой лишь слегка видоизмененные политические лозунги, под которыми социал-демократы боролись с царским самодержавием. Например, ст. 17: «Сословных различий не существует»; ст. 19: «Смертная казнь отменена»; ст. 37: «Право на личную и коллективную петицию гарантировано»; ст. 38: «Забастовка рабочих — свободна». В то же время большинство статей этой главы Конституции содержало вполне прогрессивные нормы, ранее неизвестные законодательной практике Грузии. Они воспроизводили цивилизованный подход, принятый к тому времени во многих западноевропейских странах в отношении прав человека и гражданина (правда, оставалась проблема их воплощения в жизнь). В частности, целый ряд статей главы 3 регулирует процедуры задержания и ареста граждан. В этом отношении грузинский законодатель явно шел по пути, проложенному еще английским «Habeas Corpus Act».
Выше упоминалось, что Конституция 1921 года не предусматривала поста главы государства. Его прерогативы были разделены между парламентом и главой правительства. Еще одной характерной чертой документа было преувеличенное внимание законодателя к проблемам демократичности институтов государственной власти (явно в ущерб эффективности последних), а также к процедурным вопросам. Так, в ст. 46 парламент характеризуется только как представительный орган власти, но не законодательный. Тем самым намеренно гипертрофировалась лишь одна из важнейших функций любого парламента. Срок полномочий парламента был определен всего в три года. Депутаты парламента должны были избираться на основе «равноправных, прямых, тайных и пропорциональных выборов». Никаких особых цензовых ограничений для участия в выборах не устанавливалось 68, к ним допускались граждане, которым исполнилось 20 лет.
Такой подход к избирательному праву был по тем временам прогрессивен, особенно следует отметить явное стремление грузинского законодателя к установлению пропорциональной системы выборов. Впрочем, в отношении выборов следует заметить еще одно весьма примечательное обстоятельство. Наивное убеждение в безграничной святости представителей народа привело к тому, что в Конституцию была введена норма, явно расходившаяся с принципом разделения властей и концепцией правового государства. Ст. 56 Конституции предусматривала, что только парламент имел право разбирать законность выборов своих членов и решать все споры по этому вопросу.
Вульгарное доминирование демократической парадигмы находит свое подтверждение и в том, что в главе Конституции, посвященной парламенту, после статей о его выборах вопреки мировой практике шли статьи не о структуре этого органа, а об исключительных правах (иммунитете и индемнитете) парламентариев. Так, в ч. 1 ст. 48 было записано, что «член парламента не может быть привлечен к ответственности за свое мнение и взгляды, высказанные при исполнении своих обязанностей». Ст. 49 предусматривала, что член парламента вправе не давать показания по доверенным ему, как депутату, фактам. Этого права он не лишался и тогда, когда уже не считался депутатом. Фактически в этом отношении народный избранник был приравнен к священнослужителям, которым запрещается нарушать тайну исповеди.
В соответствии с демократической традицией, заложенной Великой французской революцией, в Конституции Грузии 1921 года было записано: «Власть принадлежит всей нации. Парламент осуществляет власть в рамках этой Конституции» (ст. 52). Порядок работы парламента устанавливался регламентом, который принимался решением самого парламента (ст. 60). Многие вопросы работы парламента в Конституции не были прописаны должным образом. Так, был неясен вопрос о продолжительности сессий парламента. В ч. 1 ст. 61 отмечалось только то, что парламент должен собираться ежегодно в первое воскресенье ноября. Конституция не предусматривала возможности роспуска парламента. Допускалось лишь временное прекращение его работы, да и то только по решению самого парламента.
В период прекращения работы парламент обязан был собираться по требованию одной четвертой части его депутатов. Кроме того, его могли созвать по решению правительства или «президиума парламента». Но текст Конституции не позволял определить, что следует понимать под этим «президиумом». В ст. 65 Конституции всего лишь лаконично декларировалось: «Парламент ежегодно избирает президиум». Указание на избрание каждый год, по-видимому, говорит о том, что президиум парламента должен был представлять собой орган, аналогичный президиуму любого собрания граждан. Но этот орган продолжал функционировать и в случае временного прекращения работы парламента. Короче, грузинский законодатель не уделил должного внимания регламентации деятельности рабочих органов парламента. В Конституции ничего не было сказано и о том, кто же подписывает акты парламента, кто руководит работой того же президиума; нет в ней и упоминания о комитетах или комиссиях парламента — необходимых атрибутах работы любого парламента в мире. Единственное исключение — ч. 2. ст. 59, где говорится, что парламент имеет право назначать следственную анкетную комиссию.
Конструкция властных органов, зафиксированная в Конституции 1921 года, не могла быть эффективной и в любом случае не выдержала бы проверку практикой. В этом документе крайне небрежно прописана важнейшая функция любого парламента — законодательная. Стоит отметить оригинальность изложения грузинским законодателем такого элементарного и в то же время принципиального понятия законотворчества, как кворум. Ст. 58 Конституции гласила: «Открывать парламент можно только тогда, когда явилось больше половины общего числа депутатов». Тем самым численность присутствующих депутатов увязывалась лишь с началом работы парламента, а не с принятием значимых решений этого органа.
Из Конституции невозможно понять, что представляет законодательный процесс, из каких стадий он должен состоять. Норма ст. 60 Конституции о том, что парламент сам устанавливает регламентом порядок своих действий, не оправдывает такое пренебрежение. Принципиальные моменты законодательного процесса должны определяться именно в Конституции государства, более частные — в законах (лучше — конституционных), но никак не в регламенте. Принятый в Конституции 1921 года порядок был явным отступлением от принципов конституционализма и сложившейся мировой практики. В этом тоже проявилось гипертрофированное внимание грузинского законодателя к установлению формальных демократических положений в ущерб созданию работоспособной правовой конструкции.
В Конституции нет каких-либо четких процедур прохождения законопроекта через парламент. В ст. 57 имеется лишь общая формула о том, что любой вопрос (не только собственно законопроект) парламент решает простым большинством голосов, если регламентом или законом не установлено другое правило.
Исполнительная власть в Конституции была прописана так же небрежно, как и законодательная. Авторы документа использовали вычурную формулу: «Исполнительная власть верховного правления принадлежит Правительству республики» (ст. 66). В плане консти- туционной регламентации формирования правительства они пошли все тем же путем, в первую очередь озаботившись соблюдением «фасадной демократии». Кабинет министров был не просто продолжением самого парламента, он не просто был почти полностью зависим от парламента, самое худшее заключалось в том, что он вбирал в себя все отрицательные черты господствующей в Конституции псевдодемократической составляющей. Этот подход к исполнительной власти на практике мог оказаться еще более пагубным, чем в случае с законодательной властью.
Итак, текст первой Конституции Грузии производит двойственное впечатление. Значительная часть содержавшихся в нем конституционных норм — несомненный шаг вперед в развитии демократии и конституционализма. Прежде всего это относится к нормам о правах граждан. Не случайно, что именно на них, главным образом, и ссылается современная грузинская историография, когда представляет существование Демократической Республики Грузии одним из самых ярких эпизодов отечественной истории 69. Но скоропалительность при формулировании других норм Конституции, их недостаточная продуманность, явные нарушения юридической техники (пример — нормы, регламентирующие организацию государственной власти в республике) перевешивают содержащиеся в ней положительные моменты. Как показывает опыт многих стран мира, лозунги, не обеспеченные отлаженной работой государственного механизма, мало чего стоят.
Более того, в рамках грузинского законотворчества 1921 года обозначилась та специфика конституционного реформирования, которая не раз потом оказывала свое воздействие на ситуацию в Грузии. По существу, создатели первой Конституции Грузии оставили своим потомкам проблемное наследство. В документах МИДа Великобритании говорится о том, что Грузия в тот период была объята «экстремистским социализмом» 70. Идеи социалистов, пришедших к власти в Грузии, несли на себе явный отпечаток утопизма. Поэтому к творцам Конституции 1921 года и, шире, к грузинской интеллигенции, из которой они вышли, вполне применимы оценки, данные русским философом и юристом членом партии кадетов П. И. Новгородцевым в одной из его статей 1918 года: «Вместе с ядом социализма русская интеллигенция в полной мере приняла и отраву народничества. Под этой отравой я разумею свойственную народничеству веру в то, что народ всегда является готовым, зрелым и совершенным, что надо только разрушить старый государственный порядок,
Аждар Куртов. Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии 135 чтобы для народа тотчас же оказалось возможным осуществить самые коренные реформы, самую грандиозную работу общественного созидания» 71.
Далеко не случайно, что многие негрузинские историки весьма нелестно характеризуют период 1918–1921 годов в Грузии. Местные элиты ввергли страну в межнациональные войны, эксперимент по строительству демократического социалистического государства сопровождался на практике попранием прав граждан и установлением слабой, этнократической и олигархической власти 72. Впрочем, это не мешает любителям приукрашивать историю, ссылаясь на признание Республики Грузии «частью великих держав» (тех, кто воевал против России в Первой мировой войне), рассматривать ее как «все еще действительную единицу с точки зрения международного права» 73.
Проблемное наследие дает о себе знать
Наследие 1918–1921 годов сыграло злую шутку с Грузией после обретения ею независимости в конце ХХ века. Особенно показателен в этом отношении период правления первого президента Грузии З. Гамсахурдиа. При нем строительство нового механизма власти в Грузии было деформировано. Гипертрофированное внимание законодателя к формальным сторонам деятельности институтов непосредственной демократии сочеталось с явно недостаточным вниманием к нормативному закреплению прерогатив правительства и судебной власти. Не нашла своего решения принципиальная проблема, связанная с государственным устройством Грузии. Верховенство права и закона не получило сколько-нибудь четкого оформления в конституционном отношении. К этому периоду развития демократии в Грузии вполне применимы слова А. Шайо, утверждавшего, что «конституции, возникшие после тираний и однопартийных правительств, нашпигованы ненавистью ко всему, что связано с однопартийной системой и узурпацией власти. Такие конституции закрепляют свободу как отрицание институтов недавней тирании, вследствие чего конституция нередко сама фиксирует изнанку институтов тирании» 74. Отказ от предыдущей советской практики породил острое межэтническое соперничество и конфликты. Насилие стало постепенно основным орудием осуществления политики вла- стей, и ее нельзя считать, как то делают некоторые авторы 75, демократической политикой.
Фактический отказ грузинских политиков от поиска компромиссов в рамках демократической модели — следствие вульгарного понимании сущности демократии в современном мире. Возможно, что в иных условиях — при стабильной экономике и полноценных вооруженных силах — затруднения в сфере государственного строительства государства могли бы быть преодолены в цивилизованных рамках, но ситуация в Грузии рубежа 1990-х годов делала такой шанс призрачным. Наметившийся крен в сторону полновластья главы государства не мог быть блокирован ни со стороны гражданского общества, ни со стороны государственных институтов, что в конечном итоге и привело к острому кризису.
Созданная в период правления З. Гамсахурдиа конституционная и политическая система оказалась неспособной к трансформации на основе правовой обновляемости. В результате Грузия лишилась важнейшего качества, характерного для тех западных государств, которые она избрала образцом для подражания. Это качество — цивилизованная политическая преемственность. В широком смысле она означает способ замещения или передачи политической власти от одного индивидуума, правительства или режима к другому, в более узком — соотносится с таким законодательно установленным процессом передачи власти, который позволяет избежать возникающих кризисных ситуаций, дает возможность держать процесс под контролем 76.
Политики Грузии еще в начале 1990-х годов внесли немалый вклад в процесс дезинтеграции прежде единого государства. Однако в их действиях, в отличие, например, от того, что происходило в Прибалтике, зачастую доминировало разрушение без созидания. Подчас складывалось впечатление, что грузинский законодатель скорее выступает в роли анархиста-разрушителя, чем созидателя. Советский Союз, безусловно, не смог найти достойные ответы на многие вызовы современности 77, но речь-то идет о другом — о радикализме, продемонстрированном грузинскими политиками в ходе обретения суверенитета.
Если говорить о юридическом аспекте, то в Грузии процесс создания суверенной государственности отличал явный перекос в сторону политизированных деклараций, игнорировавших общеправовые подходы. Право вообще и нормотворчество в частности исполняли роль служанки вульгарной политики. Сегодня, по прошествии
Аждар Куртов. Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии 137 десяти лет после распада СССР, уже появилось множество мифов, связанных с обстоятельствами этого события. Многие из этих мифов сознательно культивируются отдельными политиками и политическими партиями. Так, распространен миф, будто именно путч ГКЧП в августе 1991 года стал решающей причиной того, что союзные республики стали на путь независимости, приняв после путча соответствующие декларации. Такая трактовка расходится с историческими фактами.
В Грузии митинговая истерия начала искусственно нагнетаться уже весной 1989 года. 28 марта прошел митинг в Гаграх, 1 апреля — в Леселидзе. В обоих случаях митинги переросли в столкновения на межнациональной почве, были пострадавшие. Вспыхивали политические забастовки, блокировались транспортные пути. Лидеры неформальных политических объединений пытались навязать обществу свои рецепты явочным, а подчас и силовым путем, абсолютно игнорируя традиционные политические демократические институты. Население подталкивали к конфронтации, а не к поиску консенсуса. Бездействие властей и безнаказанность лишь прибавляла силы и решительности организаторам откровенных беспорядков. Начиная с 4 апреля 1989 года, митинги в столице Грузии стали регулярными.
Из материалов, собранных комиссией А. Собчака, следует, что в планы организаторов митингов входили захват политической власти и выход Грузии из состава СССР 78. Предлогом стал «абхазский вопрос». На митинге 6 апреля 1989 года один из его организаторов М. Костава говорил: «Не следует разъединять вопросы Абхазии и независимости Грузии. Вопрос о выделении Грузии из Российской империи — самый серьезный среди всех других, которые когда-либо выдвигались национальным движением. Для этого нужно отложить все другие вопросы» 79. Впрочем, к апрелю 1989 года анти-абхазская направленность митингов стала отходить на второй план, а на первый выдвинулось требование о выходе Грузии из состава СССР. На митинге в Тбилиси 5 апреля З. Гамсахурдиа зачитал меморандум правительству Грузии, составленный с откровенно националистических и антигосударственных позиций. В нем были выдвинуты требования покончить с русификацией и арменизацией Аджарии, с арменизацией Месхети-Джавахети, положить конец заселению Грузии армянами и русскими, Кварельского района — дагестанцами, принять антиазербайджанские меры в Телавском, Лагодехском, Сагареджойском районах, репатриировать мигрировавших в Краснодарский край грузин 80.
В меморандуме все негрузинские организации республики объявлялись преступными группировками. В грузинской печати заговорили о необходимости «государственного регулирования рождаемости негрузинского населения» 81. По словам А. Собчака 82, З. Гамсахурдиа откровенно заявлял, что будет добиваться устранения советской власти и после этого упразднения автономий Абхазии, Аджарии и Южной Осетии 83. Будучи ярым этнонационалистом, он стремился к реализации собственных воззрений на будущее Грузии — и ему удалось внушить большинству грузинского населения слепую веру в безальтернативность предлагавшегося им пути к национальной государственности. Но новый лидер-пророк нес Грузии и ее народу отнюдь не только мир и добрые слова, недаром к нему отрицательно относились известные гуманисты — академик А. Сахаров и философ М. Мамардашвили. Первый из них вывел примечательную формулу, ставшую впоследствии, к сожалению, нарицательной: «Грузия — малая империя». Второй же подвергся остракизму на родине за слова: «Если Грузия проголосует за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа» 84.
Трагические события 85 9 апреля 1989 года явились прямым следствием нежелания организаторов митингов в Тбилиси добиваться своих целей цивилизованными мирными средствами. Они ничего не предприняли, когда создалась реальная угроза применения вооруженной силы, наоборот, конфликт с трагическими последствиями явно входил в их планы. Показательно, что незадолго до событий 9 апреля американские сенаторы Хелмс и Уилсон инициировали слушания по так называемому грузинскому вопросу. Целью этих слушаний должно было стать обсуждение проблемы легитимности присоединения Грузии к РСФСР в 1921 году 86. Радикальным силам в Грузии было выгодно показать политикам в США, что «оккупация» ведет к пролитию крови невинных людей.
После 9 апреля в Грузии произошла смена высшего руководства компартии республики: первым секретарем ЦК КП Грузии был избран Г. Гумбаридзе. Против ряда организаторов митингов в Тбилиси прокуратура возбудила уголовные дела, но они были прекращены в феврале 1990 года. События 9 апреля оказались в центре внимания всей страны. Даже первое заседание первого Съезда народных депутатов СССР откроется с выступления депутата В. Толпежникова, попросившего собравшихся почтить память погибших в Тбилиси минутой молчания и внесшего депутатский запрос о виновниках трагедии 87.
Немедленное обретение независимости стало центральной темой повестки дня нескольких сессий Верховного Совета Грузинской ССР. Грузинский законодатель последовательно принимал один за другим акты, направленные на разрыв связей республики с СССР. В основном они имели форму постановлений и касались оценок прошлого. Через отрицание правовой ценности нормативных актов, принятых после 1921 года, грузинский законодатель постепенно и неизбежно переходил к отрицанию юридической значимости действующего союзного законодательства. Реинтерпретация истории стала инструментом правотворчества.
Установление советской власти в Грузии в феврале 1921 года объявлялось оккупацией и насильственным свержением существовавшего политического строя Грузинской Демократической Республики. При этом о предшествующем пребывании Грузии в составе России предпочитали не вспоминать. Все государственные структуры, существовавшие в Грузии с февраля 1921 года, объявлялись нелегитимными. Были признаны недействительными Договор между Грузией и РСФСР (21 мая 1921 года), Договор о создании ЗСФСР (12 марта 1922 года), Договор об образовании Союза ССР от 30 декабря 1922 года. Далее делался вывод о необходимости разработки правового механизма восстановления независимости Грузии, что и было поручено специальной комиссии.
Отсутствие в действиях законодателей цели достижения правового демократического компромисса делало всю систему законодательства неустойчивой, деформируя саму сущность права как регулятора общественных отношений.
9 марта 1990 года было принято Постановление Верховного Совета Грузинской ССР «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии» 88 — первый документ, который юридически обосновывал сецессию. В нем Договор об образовании Союза ССР объявлялся для Грузии незаконным. (Юридически подобный шаг явно расходился с буквой закона, но в Грузии мало считались с этим.) То был расчетливый и целенаправленный удар. Дело в том, что Договор об образовании Союза ССР был юридическим фундаментом федерации. Все последующее развитие Союза ССР после объединения РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР происходило путем присоединения республик на основе положений Договора 1922 года об открытом характере советской федерации или посредством преобразования некоторых автономных республик в союзные 89. В тексте постановления курс на сецессию был завуалирован правовой казуистикой по поводу введения в СССР поста президента. Вопреки всякой логике грузинские законодатели утверждали, что «наличие поста Президента СССР при отсутствии поста президента Грузии является отрицанием существования Грузии как суверенного государства». Однако тут же из текста становилась ясной цель подобных утверждений. По мнению их авторов, никоим образом не должно было ограничиваться право республики на свободный выход из состава СССР. И вообще, суверенитет союзной республики ставился выше суверенитета СССР (правовая нелепица для федеративного государства). Хотя в заключительной части Постановления и говорилось о необходимости начала переговоров о восстановлении независимого грузинского государства, то было очевидным лукавством. В тексте постановления уже содержались формулировки, свидетельствовавшие об одностороннем противоправном выходе Грузии из правового пространства федерации 90. В частности утверждалось, что принятые Президентом СССР нормативные акты не будут иметь юридической силы без согласия парламентов всех союзных республик.
По сути дела, то был призыв к развалу федерации — и он был услышан 91. 11 марта 1990 года в Литве 92 был принят Акт Верховного Совета Литовской Республики «О восстановлении независимого Литовского государства» 93. Одновременно был утвержден акт о прекращении действия на территории Литвы Конституции СССР 1977 года и законодательства СССР, а также Конституции Литовской ССР от 20 апреля 1978 года. В Литве было восстановлено действие Конституции от 12 мая 1938 года. Давно ожидавшийся гром прогремел 94.
Только после этого 3 апреля 1990 года был наконец принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» 95. Причем в явном противоречии с мировой практикой этот акт, относящийся к конституционному законодательству, вступал в силу с момента его опубликования 6 апреля 1990 года. Практически одновременно были приняты и другие общесоюзные законы; ими должно было обеспечиваться создание новой модели федеративных отношений, которую призван был оформить новый Союзный договор (Закон СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» от 4 апреля 1990 года, Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» от 26 апреля 1990 года, Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 9 марта 1990 года, Закон СССР «О языках народов СССР» от 24 апреля 1990 года). Но начавшийся развал уже нельзя было остановить, он усиливался помимо воли и желания кремлевского руководства 96.
30 марта 1990 года в Эстонии было принято постановление «О государственном статусе Эстонии» 97, 4 мая 1990 года — «Декларация о восстановлении независимости Латвийской республики» 98. 12 июня 1990 года появилась Декларация «О Государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» 99. Формулировки в ней существенно отличались от принятых в Грузии и Прибалтике. Провозглашая государственный суверенитет, первый Съезд народных депутатов РСФСР одновременно заявил в преамбуле Декларации о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР. Но российские законодатели также утвердили верховенство республиканских конституций и законов над союзными. Создание обновленной федерации ставилось, таким образом, под вопрос, так как успех был возможен лишь при соединении усилий центра и союзных республик.
Для самой Грузии принятие акта от 9 марта 1990 года сыграло, как показали последующие события, скорее отрицательную, чем положительную роль. Волюнтаристская попытка в одностороннем порядке отказаться от пусть не лучших, но действовавших тогда норм советского законодательства сослужила плохую службу грузинскому конституционализму. Отрицая часть права, ломая при помощи политических лозунгов правовую систему, вольно обращаясь с вырванными из общей системы правовыми нормами и институтами и спекулируя на них, грузинские политики, даже сами того, может быть, не желая, настолько умалили значимость для общества правовых ценностей, что произошла эрозия права, этой важнейшей сферы обеспечения нормальной жизни общества.
Акт от 9 марта 1990 года открыл новую эпоху в развитии грузинского конституционализма — эпоху политической по содержанию и псевдоюридической по форме конфронтации законодателей. За ней скрывавалась не забота о благе общества, а отчаянная борьба фракций элиты за власть. Грузинский законодатель в этот период использовал нормы и союзного законодательства, и международного публичного права, а также гуманистические идеи и демократические ценности по принципу ad hoc, обращаясь к каждому из этих источников исключительно в силу возникающей субъективной необходи- мости, а не по глубокому убеждению. Расплачиваться пришлось грузинскому обществу. Представители антикоммунистического крыла массовых политических движений республики настойчиво внушали населению иллюзорные представления о скорейшем достижении высокого уровня благосостояния в случае выхода из состава СССР. Идеи национальной независимости получили притягательную силу для общественного сознания не в последнюю очередь потому, что на рубеже 1990 годов население было недовольно низким уровнем жизни и было легко спекулировать на обидах прошлого. Игра на национальных чувствах, на лозунгах национального возрождения стала основным занятием многих политиков.
Первый президент Грузии был свергнут насильственным путем. Военный Совет, захвативший в феврале 1992 года власть, формально восстановил действие Конституции 1921 года 100. Этот шаг, явно не во всем продуманный и направленный против свергнутого президента, имел несколько примечательных последствий.
Во-первых, по мнению абхазов, переход Грузии к Конституции 1921 года автоматически возвращал Абхазию к независимому статусу 101, и данный аргумент до сих пор активно используется сторонниками независимости Абхазии. Во-вторых, восстановление действия Конституции не было должным образом согласовано с последующим развитием конституционного законодательства республики. После состоявшихся осенью 1992 года выборов в парламент на его заседании 6 ноября того же года новая легислатура Грузии приняла два принципиальных акта — Закон «О государственной власти» 102 и Временный регламент Парламента Грузии 103. Позднее на той же сессии 104 был принят еще ряд нормативных актов конституционного законодательства, среди которых необходимо отметить следующие законы: «О постоянных комиссиях Парламента Грузии» 105, «Об обороне Республики Грузия» 106, «О Кабинете Министров Республики Грузия 107», «О военном положении» 108 и «О статусе члена Парламента Грузии» 109.
Самым важным из них стал Закон «О государственной власти». В его преамбуле говорилось, что он обусловлен чрезвычайным внутренним и внешним положением страны и будет действовать до принятия новой конституции. Фактически он играл роль конституции в период с ноября 1992 года до принятия в 1995 году новой конституции Грузии. Анализ этого Закона позволяет сделать принципиальный вывод, что он не был согласован с текстом действовавшей тогда Конституции 1921 года, так как создавал во многом иной, чем
Аждар Куртов. Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии 143 в ней, механизм властных органов. Таким образом, восстановление действия Конституции 1921 года было преимущественно конъюнктурным политическим шагом, который лишь запутывал и делал неработоспособной правовую систему Грузии.
В дальнейшем Грузии придется еще многое пережить, в том числе войну в Абхазии и принятие в 1995 году новой конституции. Однако «родимые пятна» вульгарного понимания демократии, внедренного в общественное сознание грузинскими меньшевиками начала прошлого века, до сих пор не ликвидированы. Они явно просматриваются в той редакции Конституции Грузии, которая действовала с 1995 по 2004 годы и для которой, в частности, было характерно умаление роли правительственной ветви власти.
Как Конституция 1921 года не создавала работоспособного государственного механизма власти, так и Конституция 1995 года длительное время лишь декларировала отдельные демократические постулаты. На практике грузинское государство оказалось поражено масштабной коррупцией, так и не сумело вывести народ из тяжелейшего социально-экономического кризиса. Более того, в конце 2003 года власть продемонстрировала откровенное пренебрежение к институтам демократии, решившись на массовую фальсификацию результатов парламентских выборов 110. Это и стало причиной ее краха.
Новый глава грузинского государства М. Саакашвили, получивший большой кредит народного доверия на президентских выборах 2004 года, на волне «революции роз» провел в начале февраля того же года конституционную реформу 111. Некоторые из застарелых проблем, доставшихся новой грузинской власти в наследство от ее предшественников, были таким образом решены. В частности, исполнительная ветвь власти приобрела те же черты, что и в других государствах мира. Однако сам характер происшедших в Грузии перемен, которые, в свою очередь, явно расходились с требованиями закона, не позволяет пока делать однозначно оптимистические выводы. Сомнений добавляют и такие беспрецедентные шаги новой власти, как назначение министром иностранных дел Грузии иностранной гражданки — посла Франции в Грузии 112, а также фактический перевод государственных чиновников на содержание иностранных спонсоров 113. История же свидетельствует, что любое серьезное отклонение от нормы рано или поздно отзывается в будущем, причем непредсказуемым образом.
Список литературы Истоки вульгаризации демократии в суверенной Грузии
- Миминошвили Р. С. К истории становления парламентаризма в Грузии//Вестник Межпарламентской Ассамблеи, 1996. № 3. С. 21.
- Сулаберидзе 3. Обстоятельства заключения российско-грузинского трактата 1783 года//Вопросы истории, 2002. № 1.
- Накашидзе Д. М. Некоторые вопросы взаимоотношений стран Закавказья и Европейского Союза//Власть, 2002. № 1. С. 59.
- Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). 1-е собрание. Т. XXVI. № 20007.
- Заря Востока, 1989, 25 мая.
- Собрание узаконений, 1906. № 38. Ст. 197.
- Струве П. Два забастовочных комитета//Полярная звезда, 1905. № 3. С. 227.
- Кривенький В. В. Новые данные сравнительно-количественного анализа политических партий России//История национальных политических партий России. М., 1997. С. 129.
- Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. СПб., 1998. С. 649.
- Программы политических партий России. Конец XIX -начало XX вв. М., 1995. С. 185.
- Знаменский О. Н. Всероссийское Учредительное собрание: История созыва и политического крушения. Л., 1976; Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997.
- выступления Н. И. Лазаревского 1 июня 1917 года и У. А. Ходжаева 2 июня 1917 года/Стенографический отчет Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание//Институт выборов в истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды исследователей XIX -нача ла XX вв. М., 2001. С. 657.
- Куртов А. А. Учредительное собрание и развитие института выборов в России//1917 год в исторических судьбах России. М., 1993.
- Российское законодательство X-XX вв. В 9 т. Т. 9: Законодательство эпохи буржуазно-демократической революции. М., 1994. С. 136-184.
- Ментешашвили А. Из истории взаимоотношений Грузинской Демократической Республики с советской Россией и Антантой. 1918-1921 гг.//http://infospace.narod.ra/publik/analysis_5a.htm.
- Алексидзе Л. А. Правовые аспекты абхазской проблемы в свете документально подтвержденного, а не фальсифицированного исторического опыта и современного международного права//Московский журнал международного права, 1998. № 3. С. 275.
- Дзапшба Ф. 3. Суверенитет Абхазии: историко-правовое обоснование. Саратов, 1995; История Абхазской АССР (1917-1937). Сухуми. 1983
- Лакоба С. Очерки политической истории Абхазии. Сухуми, 1990
- Системная история международных отношений. В четырех томах. 1918-2000/Под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 1. С. 119.
- Бондаревский Г. Л. Трагедия Кавказа: факты из истории (на основе документов Public Record Office, Лондон)//Новая Евразия: отношения России со странами ближнего зарубежья, 1994. № 2. С. 15.
- Зубов А. Политическое будущее Кавказа: опыт ретроспективно-сравнительного анализа//Знамя, 2000. № 4. С. 159.
- История Абхазии. Учебное пособие. Гудаута, 1993
- Лакоба С. К вопросу о Кавказской конфедерации. Абхазия и Грузия: вместе или врозь?//Грузины и абхазы. Путь к примирению. М., 1998
- Чирикба В. Грузино-абхазский конфликт: в поисках путей выхода//Там же.
- Бердзенишвили Д., Сакварелидзе Ф. Особенности политического процесса в постсоветской Грузии//Центральная Азия и Кавказ, 2001. № 6. С. 81.
- Дзапшба Ф. 3. Суверенизация абхазского народа: Политологический анализ. Саратов, 1996. С. 78.
- Маргиев В. В. Правовой статус Юго-Осетинской автономной области. Цхинвали, 1990. С. 10.
- Зубов А. Б. Будущее России на Кавказе в свете исторического опыта//Социально-политическая ситуация на Кавказе: история, современность, перспективы. М., 2001. С. 26-27.
- Празаускас А. От Российской империи к Союзу ССР//Вестник Евразии, 1996. № 1. С. 122.
- Анчабадзе Ю. Д. Национальная история в Грузии: мифы, идеология, наука//Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999. С. 163.
- Suny R. G. Social Democrats in Power: Menshevik Georgia and the Russian Civil War//D. P. Koenker (ed.). Party, State and Society in the Russian Civil War. Exploration in Social History. 1989.
- Нодиа Г. Образ Запада в грузинском сознании//Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 3. Международный опыт разрешения этнических конфликтов. М., 1997. С. 159
- Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М., 2001. С. 15.
- Камкия Б. А. Проблема легитимности власти в полиэтническом государстве. Опыт политологической интерпретации общественно-государственных отношений в Грузии и Абхазии в конце 80-х -начале 90-х годов. М., 1997. С. 11.
- Calvert P. Political Succession and Political Change//The Process of Political Succession. New York. 1987. P. 1.
- Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 2000. С. 22.
- Собчак А. Тбилисский излом. 1989 г. М., 1993. С. 69, 82.
- Лежава Г. Политическая ситуация в Грузинской ССР и абхазский вопрос (1987 -начало 1992 гг.)//Этнополитическая ситуация в Грузии и абхазский вопрос (1987 -начало 1992 гг.). Очерки. Документы. М., 1998. С. 46.
- Васильева О. Грузия как модель посткоммунистической трансформации. М., 1993. С. 29.
- Московская школа политических исследований. Библиотека. Региональные партии Грузии. Дискуссия//http://pubs.msps.ru/newsl44.htnil.
- Исторический архив, 1993. № 3. С. 102-120.
- Михалева Н. А. Правовые аспекты национальных отношений в советской феде рации//Право и власть. М., 1990. С. 183-184.
- Советская Литва, Вильнюс, 1990, 13 марта.
- Постановление II Съезда народных депутатов СССР от 19 декабря 1989 г. «О поручениях Верховному Совету СССР и Конституционной комиссии по некоторым конституционным вопросам»//Законы, постановления и другие акты, принятые вторым Съездом народных депутатов СССР. М., 1990. С. 43.
- Правда, 1989, 2 декабря
- Feldbrugge F. J. M. The Law of the Republic of Georgia//Review of Central and East European Law, 1992. Vol. 18, No. 4. P. 371.
- Ведомости Парламента Грузии, 1992. № 1. Ноябрь. Ст. 8.
- Постановление Парламента Грузии «О продлении работы осенней сессии Парламента Грузии//Ведомости Парламента Грузии. 1992, № 2. Декабрь. Ст. 99.
- Выборы в Грузии частично аннулированы//Утро. Ру, 2003, 10 ноября.
- Свободная Грузия, 2004, 7 февраля; http://www.parliament.ge/LEGAL_ACTS/CONSTITUTION/const.html.
- 11 марта 2004 года новым министром иностранных дел Грузии стала посол Франции в Грузии Саломе Зурабишвили-Кашия//Росбалт, 2004, 11 марта
- http://www.pankisi.info/media/?page=ru&id=1911.