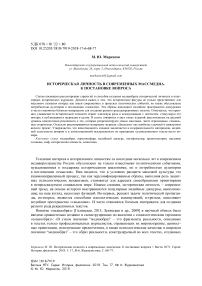Историческая личность в современных массмедиа. К постановке вопроса
Автор: Маркасов Максим Юрьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации
Статья в выпуске: 6 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению стратегий и способов создания медиаобраза исторической личности в популярных исторических журналах. Делается вывод о том, что исторические фигуры не только представляют для массового сознания интерес как знаки современных и прошлых политических событий, но также обусловлены потребностью аудитории в поглощении «смыслов». Эти образы наполняют медийное пространство дискурсами и часто становятся богатым материалом для создания разного рода рекреативных текстов. Отмечается, что принцип узнаваемости исторической личности играет ключевую роль в коммуникации с читателем, стимулируя его интерес к публикациям и журналам в целом. В статье говорится о двух типах изданий: рассчитанных на средний уровень компетенции реципиента и тех, которые репрезентируют самые массовые, часто агрессивные, социальные стереотипы. Отдельно рассматриваются материалы журнала «Дилетант» как наиболее удачный в заявленном аспекте проект. Утверждается, что качественность издания заключается в содержательности материалов, медийной статусности авторов и в композиционной выстроенности по принципам художественного текста всего номера.
Медиаобраз, персоносфера, медийный дискурс, постфольклор, криптоистория, массовое сознание, миф, историческая личность, семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219976
IDR: 147219976 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-6-68-77
Текст научной статьи Историческая личность в современных массмедиа. К постановке вопроса
Усиление интереса к историческим личностям за последние несколько лет в современном медиапространстве России обусловлено не только известными политическими событиями, нуждающимися в поддержке историческими аналогиями, но и потребностью аудитории в поглощении «смыслов». Нам видится, что в условиях расцвета массовой культуры это взаимонаправленный процесс, так как персонифицированные образы, выполняя роль защитных психологических механизмов, становятся для адресата своеобразными ориентирами в непредсказуемом социальном мире. Иными словами, историческая личность – современный тренд, на основе которого выстраиваются популярные медийные дискурсы, выполняющие, на наш взгляд, несколько функций. Во-первых, решают задачу политической пропаганды, во-вторых, являются способами идеологических манипуляций, в-третьих, наполняют медийное пространство «смыслами». И часто становятся богатым материалом для создания разного рода рекреативных текстов.
Понятие «медиаобраз» [Галинская, 2013; Зелянская и др., 2009] в научный обиход было введено сравнительно недавно и сконструировано по аналогии с социологическим термином «социообраз»: «В узком значении “медиаобраз” – это фрагменты реальности, описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества; в широком значении “медиаобраз” – это образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных
Маркасов М. Ю. Историческая личность в современных массмедиа. К постановке вопроса // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 6: Журналистика. С. 68–77.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 6: Журналистика
в медиапространстве. <…> медиаобраз представляет собой одну из форм существования массового сознания в медиакоммуникации» [Галинская, 2013. С. 91]. В какой-то степени медиаобраз является частью национальной концептосферы, в которую Ю. С. Степанов включает такой «персонаж», как Буратино [Степанов, 2001]. Г. Хазагеров оперирует понятием персоносфера, определяя его так: «Это сфера персоналий, образов, сфера литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей <…> [2002]. Принципиальное свойство персоносферы Г. Хазагеров видит прежде всего в том, «что [ее] объекты <…> – это лица, личности» [Там же]. Л. П. Гекман указывает на характерную особенность функционирования «постфольклорных» героев в современном массовом сознании: «Автономизированные от создателя персонажи обретают новое существование в бесчисленном множестве вариантов» [2006]. Вообще, вопрос реальности / виртуальности литературных героев стал достаточно модным с началом тотальной экспансии медиа в современную жизнь. Тезис В. П. Руднева о реальности как наррации [2016] находит свое подтверждение в повседневной практике массмедиа. Другими словами, и исторических личностей, и литературных героев можно трактовать с точки зрения концепции симулякров и нарратива. Если отталкиваться от распространенного в литературоведении положения, что в художественной литературе историческая личность (в общих чертах) – реализация концепции автора, то, по всей видимости, «персонаж» истории, появляющийся на страницах журналов, газет и на телеэкране, функционирует схожим образом, но выражает не художественно-эстетические, а скорее, какие-то современные политические и социальные ментальные конструкции.
Историческая личность как таковая стала объектом практически всех универсальных российских изданий, но бóльшая часть материалов, посвященных узнаваемым фигурам, содержится в специализированных журналах. Все эти публикации тематически вполне предсказуемы и отвечают принципам построения рекреативного текста. В корпусе современных материалов можно выделить несколько тематических блоков: изложение биографии правителей, героев, писателей, артистов и др., их деятельность, любовные истории. На этих темах часто строятся целые повествования в духе авантюрных сюжетов. Такие повествования на основании ориентации на адресата можно разделить на два вида: рассчитанные на средний уровень компетенции реципиента и репрезентирующие самые массовые социальные стереотипы. К первой группе можно отнести такие издания, как «Дилетант» и альманах «История», ориентированные на имитацию научности: во-первых, стилистически, а во-вторых, по признаку демонстрации разных точек зрения ученых-историков (впрочем, без ссылок, которые приняты в научной литературе). Например, в статье «Откуда пришел Рюрик» даются разные версии национальной принадлежности основателя русской царской династии: датчанин, швед, славянин и даже чеченец (История от «Русской семерки». Альманах № 3. Осень 2017). Необходимо отметить, что альманах «История» – часть общего весьма удачного «бу-мажно»-электронно-телевизионного проекта «История от “Русской Семерки”». За счет насыщения интернет-ресурса огромным количеством публикаций последний, тем не менее, теряет многие преимущества печатного текста (в электронном варианте минимум иллюстраций) и служит, скорее, информационным источником, нежели неким комбинированным медийным продуктом, обязанным, согласно маркетинговым правилам, не только включать в себя текстовые массивы, но прежде всего быть привлекательно оформленным.
Исторические издания «Тайны XX века», «Архив XX века», «Запретные истории» и др., ориентированные на менее притязательную аудиторию, построены по несколько иному принципу, раскрывают реципиенту некое сакральное знание (тайну, загадку) и являются на самом деле не экспликацией тайны, а эксплуатацией мифов и архетипов. Так, в августовском номере журнала «Архивы XX века» (Архивы XX века. 2017. № 3) рассказывается о чудом спасшемся царевиче Алексее Романове, излагается полная событий и приключений история его (естественно, под другим именем) последующей жизни. Мотив чудесного спасения лежит в основе многих известных сюжетов – от сказок и мифов до библейских историй. Повествование об Алексее начинается ретроспективно: «Зимой 1949 в одну из психиатрических больниц…» – и развивается согласно логике сказочной фабулы, представляя собой масскуль-турную модификацию фольклора. Связь фольклора и жанров массовой культуры стала устойчивой и беспроигрышной стратегией построения журналистских текстов, некоторые материалы демонстративно подчеркивают свою ориентацию на использование сказочной схемы. «Царевич Алексей» меняет облики, документы, социальный статус, но на витке начала нового сюжета ему приходится повторять эти действия снова.
Сам сюжет рассказа строится по принципам авантюрного повествования, «перегруженного» остросюжетными ситуациями. И в данном случае непринципиально, чистейший ли это вымысел, или рассказанная история все же опирается на реальные факты. Как утверждает Умберто Эко, «традиционный религиозно-мифологический персонаж <…> имел неизменные, вечные черты и неизменную же, необратимую “биографию”. Такой персонаж мог выступать героем некой “истории” <…>, но эта “история” развивалась по определенной схеме и дорисовывала образ данного персонажа согласно заранее заданной матрице» [2016. С. 232]. В популярной художественной литературе именно «непредсказуемость является важнейшей составной частью и обретает эстетическую ценность. Непредсказуемость тем важнее, чем более популярным задумывается роман; и искусство романа-фельетона для масс <…> заключается не в чем ином, как в изобретательном придумывании неожиданных событий» [Там же. С. 234]. Таким образом, практика «исторической» журналистики порождает гибридную форму мифа и современного массового романа: сюжет конструируется по законам массового искусства, а персонаж закрепляется в картине мира в качестве мифологического.
В плане использования архетипов подобные публикации по своим стратегиям воздействия близки к имиджеобразующим текстам. Такого характера материалы об исторических личностях порождают в массовой культуре дискуссии и споры, формируя таким образом псевдоинтеллектуальное медийное поле, охватывающее все сферы жизни современного читателя.
Общая сема скрытой истины лежит в основе всех названий этих еженедельников: «тайны» (дважды), «секретные», «архивы» (то, что недоступно широкому читателю), «запрет». Журнал «История» сопровождают слоган «Просто узнай правду об этом мире» и ссылка на rus-sian7.ru. Оппозиция истина / ложь – удачный манипулятивный прием, который позволяет продуцировать массу криптоисторических текстов, тем более, если учитывать, что материалы репрезентированы как журналистские, а следовательно, у рядового реципиента они порождают в сознании ассоциативную цепочку «автор – жизненный факт – журнально-газетный текст». И здесь, прежде всего, важна фигура автора как авторитетного носителя некой истины, обладающего правом эту истину сообщить. Это не только журналист, но и – шире – некий собирательный «эксперт», «историк», «специалист». Цель данных текстов (в основном неосознанная) – создать единообразно считываемый семиотический код в понимании исторических событий и исторических фигур. Этот семиотический код, вопреки популярному мнению, на наш взгляд, не столько преследует цель дать оценку (психологическую, историческую и т. д.) той или иной исторической личности, сколько определить ее место в иерархии узнаваемости. В журналах, ориентированных на поддержание массовых стереотипов, активно используются самые агрессивные приемы привлечения читательского внимания. Таков журнал «Запретная история» (Запретная история. 2017. № 17 (34)), название которого эксплицирует основной механизм порождения культуры – запрет. В данном контексте можно рассматривать «запрет» не только как снятие статуса тайны с исторического события, но и как снятие запрета на употребление просторечной лексики с целью деконструкции «великих имен». Установка «Запретной истории» на профанацию «великих» – основная стратегия издания. Вынесенные на первую страницу характерные заголовки: «Гениальный алкоголик композитор Мусоргский допился до чертиков», «Оседлать гения. Великий философ в сексуальном рабстве», «Иностранцы-засранцы» – и заголовки внутри журнала («Алконавт Мусоргский» на 14 странице), иллюстрации, намеренно не соответствующие историческому времени, современные коллажи в стиле аниме – журнал использует самые примитивные способы репрезентации исторической личности, ориентированные даже не на минимальный культурный уровень читателя, а на демонстративную экспликацию антиинтеллектуализма (не случайно, как можно заметить по заголовкам, интерес читателя фокусируется «конструкторами дискурсов» вокруг тем секса и алкоголя). Если учитывать, что историческая личность есть одна из форм проявления национальной идентичности и репрезентации национального мифа, то в масскультурных изданиях представлен анекдотический образ исторической фигуры, ее карнавальный двойник. Такое положение дел естественно и обоснованно, так как и в случае с реальными личностями современности (писателями, актерами, политиками), и в случае с историческими деятелями прошлого для успешного функционирования системы необходимо их «разностороннее присутствие в медийном пространстве» [Капцев, 2014. С. 89]. Многоликость и масочность как нельзя лучше реализуется посредством историй о разного рода авантюристах (аферистах) и мошенниках, действующих в исключительных обстоятельствах. Характерной иллюстрацией «многоликости» в этом смысле являются фигуры Фрэнка Абигнейла и Уильяма Миллигана (Архивы XX века. 2017. № 3. Август). Первый – американский мошенник, виртуозно перевоплощавшийся в представителей разных профессий, используя поддельные документы и не имея при этом никакого образования; второй – более известный человек, прославившийся благодаря уникальному психическому заболеванию, которое называют «синдромом множественной личности»: «В нем одном уживаются сразу 24 абсолютно разных человека: мужчины, женщины, дети разных возрастов…» (Архивы XX века. 2017. № 3. Август). В этом же ряду – более глобальные фигуры, ценные, прежде всего, для русского национального мифа: Троцкий, Махно, Ленин, Сталин. Как утверждает Г. Хазагеров, «национальное поле царей – это набор лекал, которым располагает нация, вычерчивая для себя образ царя, оценивая того или иного правителя как царя» [2002]. Журналистика «подбрасывает» читателю именно эти фигуры как наиболее дискуссионные, дающие возможность реализации множественности кодов. А конфликт смыслов стимулирует генерацию новых и новых медиатекстов. Поэтому семиотически продуктивным для порождения новых текстов и форм взаимодействия с читателем медийным полем продолжает оставаться так называемый советский контент. Такого характера тексты ориентированы на два типа читателя: «первичный» и «вторичный». Под «первичным» мы имеем в виду человека, родившегося в эпоху СССР, являющегося «участником» событий, семиозис которого сформирован идеологией и материальной культурой прошлой эпохи. «Вторичный» тип адресата – это тот, кто черпает представления о советском только из письменных и визуальных источников. Поэтому весьма популярны и информативны, на наш взгляд, для обоих типов читателей «музеификационные» рубрики, представляющие реципиенту фотографию предмета, сопровожденную небольшой информацией исторического характера: видеокассеты, первый отечественный гаджет, «Ну, погоди!», блюда советской кухни и др. Таковы материалы в журнале с названием «Тайны СССР», аккумулирующим все советское. Со временем подобный контент трансформируется, развивая новые возможности собственной репрезентации, но для «первичного» читателя он ориентируется на дискурс ностальгического узнавания. В принципе, советский дискурс предоставляет нам бесконечное количество тем и их вариантов, задача журналиста – изобрести успешную «маркетинговую упаковку».
Отдельную информационную нишу занимает журнал «Дилетант», изначально рассчитанный на образованного читателя. Надо отдать должное изобретателям названия журнала, обозначившим в нем и отказ от претензий на научность, и самоироническую дистанцирован-ность как от элитарности, так и от масскульта. Главный редактор журнала и сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Дымарский в одном из интервью так позиционирует издание и его название: «Здесь, по-моему, тот идеальный случай, когда творчески перерабатывается дословное значение перевода с итальянского dilitare (“развлечение”), и в новом качестве воплощается формула “развлекая, поучай”. История – это <…> не точная наука. Это <…> род человеческой деятельности, в основе которой лежит интерпретация фактов. Потому что одни и те же исторические факты анализируются по-разному, порой со взаимоисключающими выводами. И поэтому в нашей стране один и тот же царь становится то плохим, то хорошим, – тому добавляет дискуссионности еще и конкретная политическая конъюнктура “текущего момента” <…>. Мы хотим сделать популярным журнал, специализирующийся на истории. Можно в миллионный раз подтвердить, что 2 + 2 = 4, а можно показать то же самое каким-то необычным, запоминающимся способом <…>. Мы не хотим истории наукообразной» (Радио «Эхо Москвы»). Но качественность издания заключается не столько в содержательности материалов, ориентированных на интеллектуального читателя, и медийной статусности авторов – писателей и художников (Дмитрий Быков, Андрей Бильжо и др.), блогеров и радиоведущих (Илья Кабанов, Евгений Бунтман и др.), сколько (и прежде всего) в композиционной выстроенности во многом по принципам художественного текста всего номера. В этом смысле структурированность «Дилетанта» отсылает к традициям русской журналистики XVIII–XIX вв. И в данном случае нельзя не вспомнить «Трутень» Н. Новикова или «Современник» А. С. Пушкина, в свою очередь, производных от западноевропейской журналистики, представляющих собой специфический художественный текст, а не информационно-журналистский: «Можно утверждать, что, по сути дела, все тексты “Современника” так или иначе находятся во взаимном освещении. И это освещение вызвано не только действием закона “тесноты ряда”, ограниченного рамками журнала (в любом журнале независимо от авторского или редакторского намерений тексты будут взаимодействовать, поскольку они размещены под одной обложкой), но явно намеренным характером их подбора и расположения. В наиболее очевидных случаях такого подбора и расположения текстов мы имеем дело с прямым конструированием смысла по принципу передачи его от одного текста к другому» [Дарвин, 2001. С. 280]. Стратегия «конструирования смысла по принципу передачи его от одного текста к другому» так или иначе использована в создании композиции «Дилетанта».
Предваряет композиционное целое традиционно колонка редактора, в которой Виталий Дымарский говорит об опасности увлечения «эффективными менеджерами»: «С некоторых пор в пантеон вышеозначенных менеджеров активно внедряется Иван Грозный, которому упорно пытаются поменять “профессию”: мол, никакой не кровавый упырь, а истовый борец с внешними и внутренними угрозами. Короче, спаситель Отечества, достойный не просто памятника, а подражания» (Дилетант. Исторический журнал для всех. 2017. № 021. Сентябрь) 1. Если расположение публикаций альманаха «История» демонстративно упрощенное: тексты следуют друг за другом в хронологической последовательности от Рюрика до перестройки, то композиция «Дилетанта» представляет собой более сложный вариант. Во-первых, каждый номер строится вокруг фигуры какого-либо исторического деятеля, рассматриваемый нами выпуск (см. выше) посвящен Уинстону Черчиллю – представлены разнообразные по содержанию материалы и способы оформления. Во-вторых, исторические персоны, появляющиеся на страницах журнала, делятся на две четко противопоставленные группы: «либералы» – «тираны». Лагерь «либералов» представляют Сократ и Уинстон Черчилль, «тиранов» – Иван Грозный и Иосиф Сталин. Причем исторические личности внутри своей пары подобраны из разных эпох, отделенных друг от друга веками или даже тысячелетиями. Соположение различных периодов истории для демонстрации идентичности политических и социальных реалий с поправкой на особенности менталитета и материальной культуры эпохи – прием довольно распространенный в литературе. И если соотношение «Сократ – Черчилль» имплицитно и строится только, пожалуй, по принципу антитезы «жертва общества» (речь в статье идет о причинах казни философа) – «кумир общества» (удачливый триумфатор), то связь элементов пары «Грозный – Сталин» автором статьи конкретно вербализована: его [Ивана Грозного. – М. М .] любил Сталин. Одной из особенностей современной персоносферы, в отличие от традиционного архаического мифа, является постоянная изменяемость, смещение акцентов, диффузия, мимикрия, приспособляемость к различным идеологиям и т. д. Безусловно, для русского национального мифа актуальны, особенно в последние годы, не только сами фигуры Грозного и Сталина, но и их тесная ассоциативная взаимосвязь.
Семиотическое «пересечение» персонажей происходит и на другом метатекстовом уровне: Черчилль и Сталин (со)противопоставлены в статье «В союзе с Сатаной», в которой проводится мысль о вынужденном сотрудничестве британского премьер-министра с генералиссимусом в годы войны и во многом развенчивается миф об уважительном отношении Черчилля к Сталину: «В послевоенных речах Уинстон Черчилль отзывается о Сталине преимущественно негативно. Откуда же появилось популярное заблуждение о восторженных словах про вождя, который “принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”? На самом деле нечто подобное после смерти Сталина сказал <…> публицист Исаак Дойчер <…>. Но этого человека в Москве цитировать лишний раз не хотели. Во-первых, до войны он был ярым троцкистом, а во-вторых, в своих статьях он упорно твердил, что Сталин извратил теорию Карла Маркса. И со временем, стараниями сталинистов, популярную фразу стали вкладывать в уста Черчилля». Впрочем, вопрос о том, насколько последнее исторически истинно, малопродуктивен в семиотическом аспекте и поэтому может быть снят как несущественный:
исследователя больше интересует нарративная ситуация, так как высказывания, как известно, можно вычленить из контекста и скомпоновать из них необходимый «коллаж». Оригинально, на наш взгляд, решен вопрос с «презентацией» Ивана Грозного, который предстает в статье «Штурм Грозного» опосредованно, через метафоры, киноверсию и современную персоносферу. Название статьи провокационно, так как вызывает как минимум две ассоциации, причем одна из них, возникающая при первом восприятии (на это и рассчитывал автор публикации), вообще не соотносится ни с конкретной исторической фигурой, ни с эпохой, в которую жил и правил царь-тиран: Грозный – это город, штурм которого происходил уже в наше время, в конце XX столетия (возможна еще и отсылка к «кавказской» теме). Второе значение базируется на метафоре «штурм», в данном случае ее следует понимать, как «осмысление», «интерпретация» или «реинтерпретация» исторической личности режиссером фильма «Царь Иван Грозный» (1991), снятом на стыке двух эпох – советской и постсоветской, что тоже весьма символично, так как смена социально-культурной парадигмы неизбежно трансформирует персоносферу.
Тема царя и его деяний представлена в следующих друг за другом статьях «Гамлет и неврастеник» и «Государь-сыноубийца». Точнее, первая – это запись беседы Сталина , Жданова и Молотова с Сергеем Эйзенштейном и Николаем Черкасовым , как заявлено в материале (рубрика «Документ»), по поводу съемок культового фильма «Иван Грозный», а вторая опубликована под рубрикой «Версии». В первом материале обнаруживаем такие же пары, соотнесенные по принципу «либералы» – «тираны», только в роли «либералов» выступают деятели искусства, а к Сталину присоединяются его одиозные наркомы и… Иван Грозный, становящийся своеобразным виртуальным двойником генералиссимуса: в «стенограмме» (записана со слов режиссера и киноактера) четко прослеживается связь советского диктатора и русского царя. Приведем несколько цитат, иллюстрирующих вербализацию фобий Сталина в восприятии им своего имперского двойника: «Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета <…>. Иван Грозный был жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким». И про «иностранное влияние» дважды: «Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. Петр I – тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам <…> допустив онемечивание России». И далее: «Иван Грозный был более национальным царем <…> он не впускал иностранное влияние в Россию, а вот Петр – открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев».
Во второй статье именно нарратив, об особой роли которого говорилось выше, становится в данном случае структурообразующим принципом и механизмом объективации. В материале заявлено пять различных мнений «об одном преступлении» (сыноубийстве): с точки зрения беллетризованной истории (Н. М. Карамзин), с точки зрения авторитетных историков XIX в. С. Соловьева и В. Ключевского, с позиции стороннего наблюдателя – иностранца Антонио Поссевино (впрочем, читателю дана только констатация фактов, без интерпретации, свидетелем которых был итальянец), представлен взгляд современника событий, дьяка Ивана Тимофеева, и официальная точка зрения президента РФ Владимира Путина. Адресату такая расстановка мнений предлагает альтернативу для формирования суждения об этом историческом эпизоде, тем более что убийство царем своего сына – ситуация, во-первых, не проясненная, во-вторых, получившая широкое распространение и ставшая не столько исторической реалией, сколько современным медиафактом. Кстати, редуцированный вариант, закрепленный в сознании массовой аудитории, в журнале эксплицирован в виде известных, узнаваемых репродукций картин Ильи Репина, Аполлинария и Виктора Васнецовых, Михаила Авилова и кадров советских экранизаций. Так на языке привычных знаков журнал коммуницирует с читателем.
Современной исторической фигурой, как это ни парадоксально, становится Сократ – самая отдаленная от нашего времени персона из всего ряда известных людей, встречающихся на страницах журнала: свержение Тридцати тиранов не решило главных проблем – «бедности и высокого уровня социальной напряженности <…>. В подобных случаях обычной реакцией общества является поиск “пятой колонны”, развращающей умы».
Главная фигура номера, как говорилось выше, – Уинстон Черчилль. Образ Черчилля представлен читателю в многочисленных ракурсах, в том числе анекдотическом. Традиционный литературный прием снижения статусности героя используется и современной журналистикой. Карнавальный вариант великого человека эксплицирован в виде карикатур, которые как политический дискурс за последние десятилетия практически исчезли со страниц изданий. Пожалуй, лучшее качество журнала «Дилетант» – его постоянное балансирование на грани серьезности и иронии. Растиражированная фотография трех лидеров антигитлеровской коалиции дана в смеховом ракурсе. Впрочем, вызывают недоумение неточности в датировках: год рождения Сталина обозначен неверно – 1878, кроме того, почему-то заявлено, что он «лидер СССР с начала 1930-х годов», а не с 1920-х.
Постоянной рубрикой «Дилетанта» является «Портретная галерея Дмитрия Быкова». В сентябрьском номере помещена статья «Писатель Черчилль», завершающая композиционное целое номера. Особое направление в литературоведении, появившееся сравнительно недавно, – не анализ текстов профессиональных создателей художественной литературы, а рассмотрение какой-либо фигуры (чаще всего политического деятеля), не имеющей непосредственного отношения именно к художественному творчеству. Начало направлению дал своей монографией «Писатель Сталин» Михаил Вайскопф [2001]. В 1990-х – 2000-х гг. появились публикации одного из авторитетных исследователей литературы соцреализма Евгения Добренко [2000], Бориса Гройса [1993]. Парадокс заключается в том, что, создавая политические тексты, Сталин, Ленин (см. Д. Быков. «Дилетант». 2017. № 3), Черчилль (Д. Быков. «Дилетант». 2017. № 9), по мнению литературоведов и журналистов, конструируют, возможно, сами того не подозревая, «уникальные» художественные тексты, специфическим образом взаимодействующие с реальностью: «Сталин писал не теоретические книги, не политические манифесты, не политэкономические исследования, не мемуары. Он писал Историю. Это писание истории было для него частью… самого делания Истории» [Добренко, 2000. С. 640]. И далее: «Собственно, вся сталинская культура и занималась симуляцией искусства, политики и, конечно, истории» [Там же. С. 659]. Дискурс «писатель Сталин» слишком обширен и требует отдельного рассмотрения, укажем только, что Дмитрий Быков находит достаточно продуктивную тему, дающую возможность генерировать в этом направлении сколь угодно большое количество материалов: можно создать, например, «писателя Керенского», «писателя Брежнева», «писателя Горбачева» и т. д.
Отметим, что «Дилетанту» не чужды и сугубо «глянцевые» приемы привлечения читательского внимания. В каждом номере предлагается пройти тест на сайте: «Насколько ты Уинстон Черчилль?» или «Хорошо ли ты знаешь Ленина?». Впрочем, это неизбежно и необходимо в информационной нише такого рода СМИ. Виталий Дымарский справедливо отмечает в приводимом нами выше интервью: «Мы смотрим правде в глаза – народ все более и более отказывается читать. И совсем нет ничего плохого в том, чтобы приобщать его к тексту через красочно, со вкусом выстроенный зрительный ряд» (Радио «Эхо Москвы») 2.
Эксплуатация интереса адресата (пользователя) к истории воплощается в совершенно современных и модных мультимедийных формах – создании телепроектов (например, «Запретные темы истории» Андрея Склярова) или в различной компьютерной игровой или информационно-образовательной продукции, ориентированной на широкую аудиторию и принимающей вид устоявшейся системы. Впрочем, это тема отдельной статьи.
Список литературы Историческая личность в современных массмедиа. К постановке вопроса
- Вайскопф М. Писатель Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 384 с.
- Галинская Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике // Вестн. ОГУ. 2013. № 11 (160). С. 91-94.
- Гекман Л. П. Персоносфера традиционной культуры: теоретико-методологический аспект. 2006. URL: lib.altstu.ru/elib/books/Files/va2006_1/pdf/074_Gekman.pdf.
- Гройс Б. Утопия и обмен (СтильСталин - О новом - Статьи). М.: Знак, 1993. 374 с.
- Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, 2001. 293 с.
- Добренко Е. Между историей и прошлым: писатель Сталин и литературные истоки советского исторического дискурса // Соцреалистический канон: Сб. ст. / Под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академпроект, 2000. С. 673-712.
- Зелянская Н. Л., Гавенко А. С., Белоусов К. И. Медиаобраз Иосифа Сталина как гипертекст // Вестн. ОГУ. 2009. № 11 (105). С. 73-79.
- Капцев В. А. Трансформация образа современного писателя: от общественного статуса к медийному имиджу. Минск: Изд-во БГУ, 2014. 120 с.
- Руднев В. П. Новая модель реальности / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИД Высшей школы экономики, 2016. 224 с.
- Степанов. Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 2-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проект, 2001. 990 с.
- Хазагеров Г. Персоносфера русской культуры // Новый Мир. 2002. № 1.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Пер. С. Серебряного. М.: АСТ: CORPUS, 2016. 640 с.