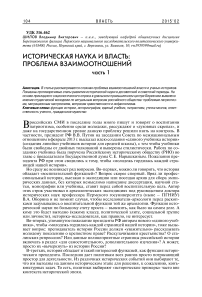Историческая наука и власть: проблема взаимоотношений. Часть 1
Автор: Шилов Владимир Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сложная проблема взаимоотношений власти и ученых-историков. Показаны противоречивые этапы развития исторической науки в досоветский и советский периоды. На основе прикладного социологического опроса в уральском промышленном центре Березники выявлено мнение студенческой молодежи по актуальным вопросам российского общества: проблемам патриотизма, миграционным настроениям, вопросам нравственности и инфантилизма.
Функции истории, историография, единый учебник, патриотизм, утечка мозгов, ответственность ученого, гражданское мужество
Короткий адрес: https://sciup.org/170167795
IDR: 170167795 | УДК: 316.462
Текст научной статьи Историческая наука и власть: проблема взаимоотношений. Часть 1
В российских СМИ в последние годы много пишут и говорят о воспитании патриотизма, особенно среди молодежи, рассуждают о «духовных скрепах», и даже на государственном уровне данную проблему решили взять на контроль. В частности, президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в феврале 2013 г. высказал идею создания «единого учебника истории» (создания линейки учебников истории для средней школы), с тем чтобы учебники были свободны от двойных толкований и выверены стилистически. Работа по созданию учебника была поручена Российскому историческому обществу (РИО) во главе с председателем Государственной думы С.Е. Нарышкиным. Пожелания президента РФ при этом сводились к тому, чтобы «молодежь гордилась каждой страницей нашей истории».
Но сразу же возникает ряд вопросов. Во-первых, можно ли говорить, что история обладает «воспитательной функцией»? Вопрос скорее спорный. Вряд ли профессиональный историк, выезжая в экспедицию или посещая архив для сбора эмпирических данных, без которых немыслимо написание диссертации, научной статьи, монографии или учебника, ставит перед собой воспитательную цель. Автор этих строк участвовал в археологических экспедициях под руководством доктора исторических наук профессора Пермского госуниверситета (ныне – ПГНИУ) В.А. Оборина и не помнит случая, чтобы исследователи-археологи перед раскопками задумывались о воспитательной функции той же археологии. Функция исторической науки по большому счету проста – выяснить, как было на самом деле . А кому это будет выгодно (какому классу, политической элите, социальной группе или личности), историка-исследователя, как правило, не интересует.
Во-вторых, упомянутое пожелание президента РФ авторам нового «единого учебника», чтобы «молодежь гордилась каждой страницей нашей истории», тоже вызывает вопрос: преподаватель истории России должен «уважительно» рассказывать молодому поколению о крепостном праве? Раскулачивании крестьянства? О сталинских репрессиях? Или данные нелицеприятные страницы российской истории включать в раздел «для самостоятельного, дополнительного изучения»? А может, просто их «вычеркнуть» из истории России?
В-третьих, история обладает и такой интересной функцией, как функция исторического прецедента . Последняя дает политикам всех рангов просто потрясающий простор для деятельности. Из различных исторических событий они выбирают те, что им выгодны на данном историческом этапе для решения, к сожалению, конъюнктурных задач. То есть, политики выбирают «исторические примеры» часто вне контекста исторической эпохи.
Историческая наука обладает и футурологической функцией. В частности, известный историк досоветского периода В.О. Ключевский говорил: «История – это фонарь в будущее». Иными словами, историческая наука – не только интересное «повествование» о деяниях наших пращуров, о славных победах и достижениях (патриотическая функция), но и наука, которая, наряду с социологией, помогает ученому, преподавателю, действующему политику давать объективную оценку научной триады: анализ – синтез – прогноз.
Экономисты и социологи всегда подчеркивают важность человеческого фактора, трудовых ресурсов. Особенно тревожит в последние годы не только отток капитала, но и «утечка мозгов», поэтому воспитание человека (человеческий капитал), обладающего «патриотическим потенциалом», и есть прогноз ближайшего (и стратегического) социально-экономического развития общества. Борьба за сохранение и привлечение трудовых ресурсов в последние годы наблюдается и между российскими регионами. Федеральный учебник истории и учебники «региональной истории», без всякого сомнения, могут внести свою лепту в формирование патриотизма на государственном, региональном и местном уровнях.
В то же время сегодня официальная власть настойчиво пытается направить историков и авторов «единого учебника истории» по правильному «идеологическому» направлению. Подобное в нашей истории уже наблюдалось, и не раз. Например, в советский период историографов досоветского периода, таких как В.Н. Татищев (1686–1750) и Н.М. Карамзин (1766–1826), именовали не иначе как «дворянскими историками», а профессоров-историков С.М. Соловьева (1820–1879), В.О. Ключевского (1841–1911) и его не менее талантливых учеников представляли как «буржуазных историков». При этом официальная советская историография всегда подчеркивала, что при всех заслугах перед российской исторической наукой они, к сожалению, не обладали «марксистско-ленинской методологией». Поэтому к трудам и довольно жестким рекомендациям этих ученых нужно было относиться критично и «очень осторожно».
Как известно, в советский период историческая наука находилась под жестким контролем государственной машины, а исторический материализм был единственной методологией. В период перестройки и гласности историки получили не только доступ к ранее закрытым фондам архивов, но и возможность писать свои труды на основе плюрализма методологий. Тем не менее, несмотря на полученную в годы перестройки и в постсоветский период «свободу», исследователи исторических эпох и сегодня находятся в довольно сложных отношениях прежде всего с пропагандистской машиной официальной власти.
Поэтому остановимся на проблеме взаимоотношений исторической науки и власти в российском государстве.
Первоначально рассмотрим вопрос о господствующей в советский период теории развития общества – историческом материализме, разработанной еще в XIX – начале XX вв. в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей. Основные ее тезисы изложены Марксом в предисловии к «К критике политической экономии». Главное в этой теории можно обозначить двумя основополагающими тезисами: 1) основа общества – это материальное производство, которое является источником всех процессов в обществе и определяет общественное сознание, и 2) исторический процесс есть последовательная и закономерная смена общественно-экономических формаций, обусловленная ростом уровня производительных сил и, соответственно, совершенствованием способа производства.
Разумеется, придерживаясь «марксистско-ленинской методологии», советские историки в основной своей массе придерживались и «классового подхода» при изучении самых различных исторических эпох. Маркс в «Манифесте Коммунистической партии» по этому поводу писал: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов… угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов».
Несмотря на то что автору этих строк ближе историческое направление так называемой школы «Анналов», основанное Люсьеном Февром и Марком Блоком, и эта «новая историческая наука» действительно оказала значительное влияние на развитие всей мировой историографии XX в. 1 , тем не менее не стоит отрицать и тот факт, что при всех своих недостатках исторический материализм оказал значительное влияние на развитие исторической и общественных наук в целом во всем мире.
Многие современные историки признают, что в истории действительно зафиксировано несколько устойчивых «общественно-экономических формаций», или «способов производства». И вывод Маркса о важности экономики в историческом процессе тоже практически не оспаривается. Можно даже сказать, что благодаря Марксу в исторической науке появилось, например, новое направление – «экономическая история». Но в нашем случае речь идет о том, что начиная с конца 20-х до конца 80-х гг. XX в. исторический материализм был частью марксистско-ленинской идеологии, соответственно, и историческая наука в советском обществе во многом тоже стала превращаться в своеобразную форму идеологии.
Современный исследователь С.Г. Кара-Мурза даже пришел к выводу, что марксизм в СССР стал «закрытой диалектикой, катехизисом» [Кара-Мурза 2008: 435]. В то же время многие положения марксизма подвергались жесткой критике и раньше. Так, еще русский философ Н.А. Бердяев, критикуя экономический и социологический детерминизм К. Маркса, писал: «Человек не может освободиться от определяющей его экономики, он ее лишь отражает… Власть экономики в человеческой жизни не Марксом выдумана, и не он виновник того, что экономика так влияет на идеологию. Маркс увидел это в окружавшем его капиталистическом обществе Европы. Но он обобщил это и придал этому универсальный характер… Маркс явно смешивал экономическую и этическую категории». И далее: «…марксизм не есть только наука и политика, он есть также вера, религия. И на этом основана его сила» [Бердяев 1990: 81]. Карл Поппер считал, что предсказать ход истории невозможно. Примечательно, что свою известную работу «Нищета историцизма» он посвятил «памяти бесчисленных мужчин и женщин всех убеждений, наций и рас, павших жертвами фашистской и коммунистической веры в Неумолимые Законы Исторической Неизбежности» [Поппер 1992].
Вернемся к российским историографам досоветского периода. Сразу отметим, что с критикой упомянутых выше российских историков во многом можно согласиться. Скажем, в известной эпиграмме (чье авторство приписывается А.С. Пушкину) освещение истории России Карамзиным подвержено критике следующим образом:
В его «Истории» изящность, простота Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута.
Но при этом известно, с каким восторгом А.С. Пушкин относился к многотомному труду Н.М. Карамзина «История государства Российского». По словам великого поэта, «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом».
Конечно, сегодня этот известный труд Н.М. Карамзина можно упрекнуть в ангажированности (по аналогии с современностью вспомним «пожелание» создателям единого учебника истории). Сам император Александр I своим именным указом от 31 октября 1803 г. даровал Карамзину звание историографа. К званию были добав- лены 2 тыс. руб. ежегодного жалования (титул историографа в России после смерти Карамзина в 1826 г. не возобновлялся).
Критикуя историков досоветского периода (по заказу власти), сама советская власть «давала заказ» на создание «правильной истории». Чего только стоит «Краткий курс истории ВКП(б)» – учебник по истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), опубликованный в 1938 г.! Изложенная в «Кратком курсе» концепция исторического развития России и партии большевиков, созданная под руководством И.В. Сталина, стала эталоном при освещении отечественной истории XIX–XX вв. Например, устанавливалась четкая периодизация, основные элементы которой воспроизводились во всех советских изданиях 1960–80-х гг. Развернулась крупномасштабная кампания по пропаганде идей этого издания и его внедрению в сознание населения через среднюю и высшую школу. Для этого 14 ноября 1938 г. Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)”», в котором говорилось о необходимости «дать партии… руководство, представляющее официальное, проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований». На торжественном общем собрании Академии наук 22–23 декабря 1939 г. академик О.Ю. Шмидт сказал: «Товарищ Сталин – инициатор и главный создатель “Краткого курса истории ВКП (б)” – классического произведения марксизма-ленинизма». При этом выступление академика носило название «Великий корифей науки».
После смерти И.В. Сталина книга была переработана и издавалась под названием «Краткий курс истории КПСС». Под редакцией д.и.н., кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС (1972–1986) академика АН СССР Б.Н. Пономарева была создана эталонная «История Советского Союза с древнейших времен до наших дней» в 10 томах (1963). Здесь можно особо отметить, что в развитых странах «государственные и партийные деятели» не пишут учебники, а лишь мемуары, «исторические воспоминания» и, как правило, только после выхода на пенсию (так, У. Черчилль даже получил за это Нобелевскую премию).
Впрочем, и за рубежом многие политики еще при жизни заботятся о своем имидже, т.е. о создании своего положительного «исторического портрета» для современников и для потомков. Автору этих строк довелось взять интервью у редактора газеты «Островитянин» ( The Islander ) штата Алабама Джона Муллена ( John Mullen ). На мой вопрос: «Как у вас складываются отношения с политиками?», – дословно он ответил так: «Конечно, во многих официальных учреждениях есть у нас хорошие знакомые, которые всегда готовы поделиться информацией, можно и официально обратиться… Если же вообще говорить об отношениях политик – газета, я бы охарактеризовал их как “любовь-ненависть”. Вот напишешь, помню, что-нибудь хорошее о каком-нибудь политическом деятеле или чиновнике – он тебе звонит, столько комплиментов… Ну и, соответственно, покритикуешь – с точностью до наоборот» [Шилов 2011: 107-108].
Взаимоотношения «СМИ – власть» – тоже отдельная тема для интересного исследования. Здесь можно только сказать, что журналисты, с точки зрения историков, все же «любители», часто они действительно вольно или невольно делают некорректные выводы. Но спор между ними должен решаться только через суд с привлечением экспертов (историков, социологов, политологов, филологов). А вот вмешательство власти в область исторических изысканий будет не только неуместным, но и абсолютно бесполезным в лучшем случае или даже вредным – в худшем.
( продолжение следует )
Список литературы Историческая наука и власть: проблема взаимоотношений. Часть 1
- Бердяев Н.А. 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 224 с.
- Кара-Мурза С.Г. 2008. Советская цивилизация. От начала и до наших дней. М.: Алгоритм; Эксмо. 435 с.
- Поппер К.Р. 1992. Нищета историцизма. -Вопросы философии. № 8-10.
- Шилов В.В. 2011. СМИ в США: по результатам поездки в 2009-2010 гг. Галф-Шорес -Березники: ИД «Типография купца Тарасова». 336 с.