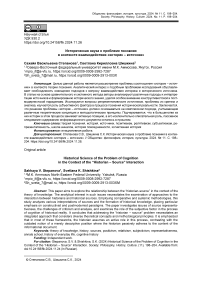Историческая наука о проблеме познания в контексте взаимодействия «историк - источник»
Автор: Степанова С.В., Шишкина С.К.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью данной работы является рассмотрение проблемы соотношения «историк - источник» в контексте теории познания. Аналитический интерес к подобным проблемам исследований обуславливает необходимость освещения подходов к вопросу взаимодействия историка и исторического источника. В статье на основе сравнительного и системного метода авторы анализируют различные подходы к интерпретации источников и формированию исторического знания, уделяя особое внимание конструктивистской и постмодернистской парадигмам. Исследуются вопросы репрезентативности источников, проблемы их критики и анализа, изучается роль субъективного фактора в процессе познания исторической реальности. Заключается, что решение проблемы «историк - источник» должно основываться на комплексном подходе, учитывающем различные теоретические концепции и методологические принципы. Подчеркивается, что в большинстве из них историк в этом процессе занимает активную позицию, а его исключительно описательная роль, пассивное следование содержанию информационного документа осталось в прошлом.
Теория познания, история, источники, позитивизм, релятивизм, субъективизм, репрезентативность, школа анналов, история повседневности, когнитивная история
Короткий адрес: https://sciup.org/149146681
IDR: 149146681 | УДК: 930.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.26
Текст научной статьи Историческая наука о проблеме познания в контексте взаимодействия «историк - источник»
Введение . Задачи современной отечественной исторической науки велики: восстановление разорванной нити научных изысканий в этой области, преодоление закрытости и установление связи с мировой исторической наукой, достижение престижа и укрепление достойного статуса отечественной исторической науки, создание объективной картины прошлого, адекватно отражающей реалии дня вчерашнего.
В прежней истории все было просто, так как дальше внешней критики источников дело не шло: историк должен был установить достоверность используемого материала, датировать его, определить атрибуцию, правильно его прочитать. Затем шел пересказ документа, при этом историки выполняли вторичную функцию: содержание источника осознавалось как соответствующее подлинной истории. Историк повествовал о событиях прошлого, глубинный же анализ экономических, социальных и ментальных структур отсутствовал.
В противовес истории-повествованию учеными была выдвинута концепция активной роли историка в исследовательском процессе. Имелся в виду новый тип самовыражения ученого как творческой личности. Историк не раб источника. В этом контексте в современной науке сформировался следующий алгоритм исследования:
-
1. Ученый сам ставит научную проблему, формулирует ее. Для современной историографии характерен высокий уровень понимания значимости этого процесса. Объясняющая стратегия поиска ведет к разрешению поставленной проблемы, к написанию истории-проблемы, а не истории-рассказа.
-
2. Проблемно-ориентированная история - это признание связи гражданской и научной позиции историка. Это не «принцип партийности», обязывающий беспринципно служить «инстанциям», и не «уход» в фактографию в надежде избавиться от того же партийного диктата. Это гражданская и мировоззренческая позиция историка, связь прошлого и современности, которая предоставляет специалисту критерии для осуществления научного анализа. Это признание плюрализма в истории. Наконец, это признание того, что историография передает следующему поколению лишь фактическую часть знаний, а интерпретация фактов меняется в соответствии с существующей картиной мира.
-
3. Активная роль историка проявляется в отборе и формировании репрезентативной суммы фактов. Нет нужды доказывать, что комплектование источниковой базы зависит от теоретической подготовки, профессионального мастерства и человеческих качеств ученого.
-
4. На стадии анализа и синтеза материала активная роль историка проявляется в том, что, исходя из научной проблемы, он формулирует вопросы к источнику. Последний нем и невыразителен, пока исследователь не задает ему вопросы: «Нет вопрошающего историка, нет и источника» (Гуревич, 1991: 26). Именно историк возводит памятник в статус исторического источника. Однако творческая роль ученого не сводится к регистрации «ответов» последнего на поставленные вопросы. Источники созданы людьми прошлого. В них зафиксированы их субъективные мысли и намерения, их взгляд на мир, на конкретное событие. Историк обязан постичь и правильно понять весь заложенный в документ смысл. Здесь вводится понятие «исторического контекста», трактуемое как необходимость учета картины мира, представлений и понятий, менталитета описываемого времени. Только тогда источники «ответят» на вопросник и сообщат дополнительные, порой неожиданные сведения. Историк дает собственную интерпретацию сообщениям источников, превращая их в научные факты.
-
5. Следующая стадия научного поиска - историческая реконструкция изучаемого события, решение поставленной научной проблемы. Она состоит из сложного сплава сообщений источников и собственных представлений об историческом процессе. Исследовательская активность ученого не сводится к отражению данных источника. Решение научной проблемы - это новое объяснение изучаемых явлений на основе социально-культурного контекста (Медушевская, 2010). В нем нет приоритетов экономических и «объективных» факторов, односторонней детерминации, а есть синтез материального и духовного, объективного и субъективного (Бермус, 2007: 43-58). Это новая, более сложная и гибкая социально-культурная модель исторического объяснения.
Обсуждение и результаты. Отношение исследователей к источникам всегда было неоднозначным. У позитивистов (Л. Ранке, И. Дройзен, Ш. Сеньобос, Ф. Куланж и др.) сложился культ письменного источника. Историческая наука ограничивалась для них эмпирическим познанием. Советские историки-марксисты также считали, что если материалы достоверны и не фальсифицированы, то можно смело возводить их на пьедестал источниковой базы. Существовала и другая крайняя точка зрения - релятивистская. Ее поддерживали историки-неокантианцы и экзистенциалисты (В. Дильтей, Г. Риккерт и др.). Они считали, что, в отличие от естественно-научных данных, факты истории лишены чувственной непосредственности, они иллюзорны, поскольку относятся к духовной жизни людей. В источниках такие данные зафиксированы косвенно и субъективно, поэтому их невозможно изучить и проверить. История, по мнению ученых данного направления, – это субъективная интерпретация прошлого его исследователями. «Сколько историков – столько и историй», – утверждали представители этой школы. Подобные убеждения вели к отрицанию познавательных возможностей исторической науки, то есть к чистейшему релятивизму (Ланглуа, Сеньобос, 2004).
Современная методология истории отвергает обозначенные крайности и на основе признания того, что история – это наука о людях во времени, выдвигает более точное, более сложное понимание отношения специалиста к источникам. Оно базируется на признании того, что реальная жизнь людей в ее конкретной предметности, с их реальными потребностями и интересами, с их страстями и мыслями, побуждениями и эмоциями зафиксирована в исторических источниках (Гуревич, 1991: 25‒27), но в зависимости от мировоззрения, психического состояния, уровня культуры, степени заинтересованности авторов. Для постижения истины от историка требуется глубокое проникновение в сущность источника, использование иного исследовательского инструментария.
Исторические источники субъективны, поскольку они – продукт сознания и психики автора; инвариантны, поскольку в текстовом плане неизменны и содержательно безграничны. И вот эта содержательная безграничность напрямую зависит от мастерства историка. А.Я. Гуревич вслед за анналистами считает, что источники сообщают историку только те сведения, о которых он вопрошает (Гуревич, 1991). Памятник нем и невыразителен, пока исследователь не задает ему во-просов1. Рассмотрим подробнее функционал историка в трактовке и популяризации содержания источников прошлого.
Во-первых, активная роль историка проявляется прежде всего в том, как он формулирует проблему. Именно в постановке темы заключены направление и концепция будущего научного поиска. Одно дело ‒ «Завоевание Якутии в XVIII в.»; «Присоединение Якутии», другое ‒ «Вхождение Якутии в состав Русского государства» или «Белобандитское движение в Якутии» ‒ «Повстанческое движение в Якутии в начале 20-х годов». Сформулированная проблема диктует свой вопросник. Историк активно работает с текстом, выделяя из него интересующую его информацию. Поэтому современная методология считает: нет вопрошающего историка – нет и исторического источника (Гуревич, 1991: 26). В этом случае обманчиво представление о том, что «данные источника» сообщают готовые сведения о фактах истории. Наоборот, «данные источника» – суть целенаправленной и активной работы историка.
На этом основании можно утверждать, что сами по себе памятники прошлого немы и невыразительны, в достоинство исторического источника возводит их историк.
Во-вторых, активная роль историка очевидна в процессе отбора источников, в установлении его критериев, в формировании репрезентативной базы исследования. Степень научной значимости и ценности в этом случае определяется самим ученым.
В-третьих, на стадии толкования и интерпретации источников, при их анализе и синтезе историк также самостоятелен, хотя о произвольности речь не идет. Исследователь погружается в сложный сплав сообщений источников, собственных историософских представлений, вобравших в себя опыт науки и современную картину мира. Тем не менее его цель не отражение и регистрация «данных», а глубокое проникновение в культуру эпохи, создавшей источники. Он оперирует такими понятиями, как «исторический контекст», «диалог» с авторами источников.
Социально-культурный контекст означает, что исследователь хорошо понимает изучаемую эпоху, ее терминологию, систему ценностей, верований и т. д.
Между историком и источниками возникнет творческое взаимодействие лишь тогда, когда они «поймут» друг друга. Это и есть цель «диалога» между исследователем и людьми прошлого. Например, А.Я. Гуревич пишет, что он потерпел полную неудачу, когда в соответствии с советской методологией пытался в средневековых скандинавских сагах и повествовательных источниках получить «данные» о земельной и движимой собственности, эксплуатации крестьян и т. д. Источники «отказались» отвечать на эти вопросы. Оказалось, что норвежские и исландские крестьяне были заняты совсем другими делами. Пришлось ученому перестроить свой вопросник. Только узнав многое об их жизни, их представлениях о семье, о человеческом достоинстве, о суде и праве, о верованиях, регулирующих их социальное поведение, историк смог уяснить кое-что о природе собственности и характере общественных отношений (Гуревич, 1991).
Этот опыт подкрепляется антипозитивистской парадигмой, ярким представителем которой был Р.Г. Коллингвуд. В своей основополагающей работе «Идея истории» он подчеркивает активную роль познающего субъекта в процессе создания исторического знания (Коллингвуд, 1980: 267–268). Р.Г. Коллингвуд сравнивает историка с детективом, который не просто собирает улики (источники), но и активно использует свои интеллектуальные способности для реконструкции прошлого, восстанавливая мыслительные процессы исторических деятелей. Это значит, что ученый не пассивно регистрирует факты, а активно их интерпретирует, стремясь понять мотивы действий, цели и убеждения людей прошлого. Ключевым аспектом здесь является реконструкция «мыслящего сознания» исторических личностей, понимание их интеллектуальных процессов. Это требует глубокого погружения в контекст эпохи, изучения философских, религиозных и культурных представлений изучаемого общества.
Проблема репрезентативности источников в этом контексте приобретает особое значение. Нельзя считать какой-то из них объективным и исчерпывающим отражением прошлого. Он всегда представляет собой фрагментарную картину, преломленную через призму целей, убеждений и ограничений его создателя. Поэтому историк должен критически анализировать источники, учитывая их возможности и ограничения, использовать методы сравнительного анализа, сопоставляя данные из различных источников, и включать их интерпретацию в контекст более широких исторических процессов.
Более того, современные исследования широко используют междисциплинарный подход. Для глубокого понимания прошлого необходимо привлекать данные из смежных научных дисциплин, таких как археология, антропология, лингвистика, социология, экономика и другие. Например, археологические раскопки могут подтвердить или опровергнуть данные письменных источников, лингвистический анализ способен помочь в понимании идеологии и мифологии изучаемого общества, а антропологические данные - расширить наше понимание социальных структур и бытовой культуры. Поэтому современная историография стремится к созданию целостной картины прошлого, синтезируя информацию из самых разных источников и привлекая разнообразные методологические подходы.
А. Людтке, один из основоположников истории повседневности, радикально переосмыслил подход к изучению прошлого. Для него история - это не просто описание быта, а прежде всего реконструкция человеческого опыта, основанная на воспоминаниях людей, переживших определенные события (Людтке, 1999). Эти воспоминания, будучи субъективными и часто неполными, становятся фундаментом для построения нового исторического знания. А. Людтке подчеркивал, что история повседневности сосредотачивается на «малых жизненных мирах» - интимных сферах существования людей, их повседневных заботах, отношениях, ритуалах, во многом не отраженных в официальных документах. Таким образом, история повседневности выходит за рамки традиционного нарратива, сосредоточенного на политике, войнах и великих личностях, и погружается в микроисторию, исследуя жизнь обычных людей.
Этот сдвиг в парадигме привел к переосмыслению роли источников. Российская историография долгое время придерживалась позиции «тексты могут говорить сами за себя», что приводило к переизбытку описательных работ, в которых источники воспринимались как самодостаточные и не требующие глубокого анализа (Иллерицкая, 2022). История повседневности же отвергает этот подход. Анализ будничной жизни требует тщательного вникания в текст, понимания его контекста, учета неявных смыслов, недомолвок и случайных обрывов информации. Важно не только то, что написано, но и то, что оставлено за пределами текста, о чем автор умолчал или что не смог выразить. Именно в этих пробелах, в «междустрочии», часто скрывается ценная информация о повседневной жизни.
Историки повседневности стремятся реконструировать «типичную» картину жизни определенной социальной группы в конкретный период времени, опираясь на весь доступный комплекс источников: от личных писем и дневников до материальной культуры и артефактов. Они ищут мотивы действий исторических акторов, пытаются понять их поступки не с позиции объективного судьи, стоящего «над» источником и его автором, а вступая в диалог с прошлым. Последний предполагает критическое осмысление источников, задавание вопросов, которые сам автор не мог бы себе поставить, поскольку они рождены современными научными знаниями и методологическими подходами (Кобозева, 2021).
Важно отметить, что история повседневности использует междисциплинарный подход. Она активно заимствует методологию из социологии, антропологии, лингвистики, психологии. Например, методы социологического анализа позволяют выявлять общественные структуры и отношения, скрытые за кажущейся хаотичностью повседневной жизни. Антропологические подходы помогают понять культурные коды и символические значения предметов и действий. Лингвистический анализ текста выявляет нюансы языка, отражающие социальные и культурные особенности эпохи.
Более того, история повседневности обращается не только к письменным источникам. Она широко использует материальные объекты, археологические находки, фотографии, устные истории. Все эти источники рассматриваются в системе взаимосвязей, позволяя создавать более полную и многогранную картину прошлого. Например, изучение одежды или предметов быта может рассказать о материальном уровне жизни, социальном статусе и культурных представлениях людей в определенном историческом периоде. Устные тексты дают возможность понять субъективное восприятие событий отдельными индивидами и оценить роль памяти в формировании исторического опыта.
Таким образом, история повседневности – это динамично развивающаяся область исторических исследований, стремящаяся к более глубокому и многогранному пониманию прошлого через изучение жизни обывателей. Её междисциплинарный характер и критический подход к источникам позволяют расширить наши представления о том, как жили люди в прошлом и как их повседневный опыт влиял на ход истории. Применение новых методов анализа, включая цифровые, только укрепляет потенциал истории повседневности для выявления новых фактов и интерпретаций.
Современная тенденция работы специалиста с источником может быть представлена через «когнитивную историю» О.М. Медушевской. Эта методология, выходящая далеко за рамки традиционного источниковедения, предполагает использование инструментов когнитивных наук и теории информации для анализа исторических источников. Вместо пассивного описания событий когнитивная история стремится реконструировать когнитивные процессы, стоящие за созданием исторических текстов и артефактов – мыслительные операции, информационные потоки и способы кодирования данных в конкретном историческом контексте.
Ключевым моментом является понимание того, что источник – это не просто пассивное отражение реальности, а продукт активной деятельности человека, закодированный с помощью определенных когнитивных механизмов. Поэтому, анализируя источник, историк должен реконструировать когнитивные карты создателей этих источников, их системы верований, ценностные ориентации и способы обработки информации. Это позволяет выйти за пределы поверхностного анализа текста и проникнуть в глубинные слои исторической реальности. Например, анализ средневековой хроники с точки зрения когнитивной истории не ограничится простым извлечением фактов. Важно понять, как автор хроники воспринимал события, какую информацию он считал значимой, как он структурировал ее и какие когнитивные схемы использовал для понимания и интерпретации мира. Выяснение этого предполагает анализ языка хроники (лексика, синтаксис, риторические приемы), структуры изложения, выбора фактов и их интерпретацию. Учитывается также социальный статус автора, его образование, место в социальной иерархии, факторы, повлиявшие на особенности его восприятия событий и способ представления информации.
Таким образом, когнитивно-информационная теория истории проникает в такие тонкости, как анализ обмена данными в разных социальных группах, выявление динамической и статической информации в источнике, исследование психических параметров коммуникативного процесса (например, роль эмоций, убеждений и предвзятости), а также проблемы отчуждения информационного ресурса – ситуации, когда доступ к данным ограничен для определённых групп населения. Особое внимание уделяется когнитивным механизмам постижения смысла исторических текстов – важно то, как историк интерпретирует неявные значения и идеологические подтексты. Методология когнитивной истории основывается на синтезе достижений философии познания (эпистемологии), когнитивной психологии (изучение процессов восприятия, памяти, мышления), лингвистики (анализ языка источника как средства кодирования информации), социологии (анализ общественных контекстов создания источников), антропологии (изучение культурных представлений и верований), а также целого ряда вспомогательных исторических дисциплин, таких как архивоведение, палеография и дипломатика. Благодаря такому подходу, когнитивная история обеспечивает более глубокое и многостороннее понимание прошлого. Кроме того, она способствует пониманию не только прошлых событий, но и современных социальных процессов, поскольку когнитивные механизмы человека работают независимо от исторической эпохи.
Заключение . Таким образом, связь между историком и источниками далеко не проста, как представлялось в позитивистско-марксистской историографии. Тогда если источник отвечал требованиям внешний критики, его можно было расценивать в качестве ценного информатора о прошлом. Тенденциозность или объективность автора источника – это только первый пласт информации.
Историк обязан представить себе модель мира и правила, в соответствии с которыми изложены в источниках факты истории. «Канал связи» здесь проходит через понимание сути эпохи, ментальности людей, системы ценностей, взглядов автора, специфики языка. Лишь тогда вдумчивый исследователь получит полную и объективную информацию из источника.
Активная роль историка очевидна в формировании концепции изученной научной проблемы. Выводы автора – это его интерпретация исторического явления или событий. Но релятивизма здесь нет.
Современная методология не отменяет научно-повествовательной функции и возможностей исторической науки. Любая исследовательская концепция или теория, подкрепленная репрезентативной источниковой и внеисточниковой базой, есть новое, но не последнее слово в научном познании истории.
Общенаучная методология в лице представителей школы анналов, истории повседневности, культурно-исторической интерпретации прошлого и когнитивной истории выдвинула концепцию активной роли историка по отношению к источнику. По убеждению исследователей, историк не раб источника, он действует активно и суверенно – ставит научную проблему, определяет отбор материалов, интерпретирует источники, формулирует авторскую научную концепцию.
Список литературы Историческая наука о проблеме познания в контексте взаимодействия «историк - источник»
- Бермус А.Г. Введение в гуманитарную методологию. М., 2007. 335 с. EDN: QXBGNZ
- Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2-3. C. 21-36. EDN: QLNKIL
- Иллерицкая Н.В. "История повседневности" в контексте современной историографии // Вестник РГГУ. Серия: История. Политология. Международные отношения. 2022. № 2. С. 12-20. DOI: 10.28995/2073-6339-2022-2-12-20 EDN: QJXYSP
- Кобозева З.М. "Повседневные практики" в "истории повседневности": как работает метод // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 32-38. DOI: 10.18287/2542-0445-2021-27-1-32-38 EDN: VXIWSP
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: автобиография. М., 1980. 486 с.
- Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004. 305 с. EDN: QOWSMR
- Людтке А. Что такое история повседневности?: ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. М., 1999. С. 77-100.
- Медушевская О. Теория исторического познания. Избранные произведения. М., 2010. 576 с.