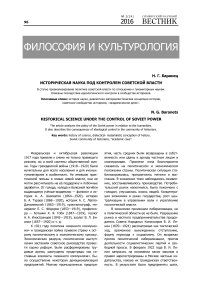Историческая наука под контролем Советской власти
Автор: Баранец Наталья Григорьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована политика советской власти по отношению к гуманитарным наукам. Описаны последствия идеологического контроля в сообществе историков.
История науки, диалектико-материалистическая концепция истории, советское сообщество историков, "академическое дело"
Короткий адрес: https://sciup.org/14114361
IDR: 14114361
Текст научной статьи Историческая наука под контролем Советской власти
N. G. Baranets
HISTORICAL SCIENCE UNDER THE CONTROL OF SOVIET POWER
Февральская и октябрьская революции 1917 года привели к смене не только правящего режима, но и всей системы общественной жизни. Годы гражданской войны (1918—1920) были мучительны для всего населения и для ученых-гуманитариев в особенности. Не имевшие практической пользы в глазах новой власти, они не могли рассчитывать на её поддержку и побочные заработки. От голода, холода и болезней погибли выдающиеся учёные-академики — филолог и историк А. А. Шахматов (1864—1920), историк Б. А. Тураев (1868—1920), историк А. С. Лаппо-Данилевский (1863—1919), кристаллограф, минералог Е. С. Фёдоров (1853—1919), профессора — ботаник Х. Я. Гоби (1847—1919), геолог А. А. Иностранцев (1843—1919), зоолог В. Л. Бианки (1857—1920) и т. д.
К 1921 году политика «военного коммунизма» и гражданская война привели страну к острому политическому и экономическому кризису. Экономическая разруха, политические выступления заставили советское руководство провести серию реформ. Были расформированы трудовые армии, распущены продотряды как составные элементы «военного коммунизма». Была осуществлена некоторая денационализация предприятий. Мелкие промышленные предпри- ятия, часть средних были возвращены в собственность или сданы в аренду частным лицам и кооперативам. Принятие нэпа благоприятно сказалось на политическом и экономическом положении страны. Политическая ситуация стабилизировалась, прекратились мятежи и восстания. В экономике тоже наблюдалось оживление, восстанавливалось производство. Потребительский рынок наполнился, было покончено с голодом, улучшилась жизнь людей. Концентрация экономики в руках государства, рост централизации в управлении вели к укреплению политической власти.
В экономике произошла либерализация, но в политической области её не было. Разрешение рынка и частного предпринимательства председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин (1870—1924) рассматривал как тактический ход, временное вынужденное отступление, форму перехода к социализму. Он возражал против политической либерализации, против деятельности социалистических партий и свободной прессы. В феврале 1922 года В. И. Ленин запросил, на основании каких законов и правил зарегистрированы в Москве частные издательства, какова их гражданская ответственность. В результате были предприняты шаги, которые к середине 20-х годов привели к установлению государственной монополии на средства массовой информации, введению цензуры и жесткого идеологического контроля. При нэпе были ликвидированы остатки социалистических партий и групп. По инициативе В. И. Ленина в августе 1922 года XII Всероссийская конференция РКП(б) приняла резолюцию «Об антисоветских партиях и течениях», где все партии, кроме РКП(б), объявлялись «антисоветскими» и тем самым были поставлены вне закона. Еще весной 1922 года среди меньшевиков были проведены массовые аресты, часть из них были посажены в тюрьмы, часть сосланы на Восток, часть высланы за границу. В июне 1922 года состоялся показательный процесс над видными эсерами, обвиненными в контрреволюционной деятельности.
В этой ситуации советское правительство должно было взять под наблюдение интеллигенцию, чтобы ликвидировать её глухую оппозицию. Были предприняты меры для снижения вредного воздействия чуждой идеологии: закрыты некоторые частные журналы и издательства, распущены философские общества при университетах. Именно «старая интеллигенция» рассматривалась как основное препятствие большевизации общества. 14 декабря 1922 года ЦК РКП(б) издал циркуляр «О работе парторганизаций в вузах и рабфаках», в котором было определено значение высшей школы и пути организации её контроля: «…значение высшей школы на боевом в настоящее время фронте огромно. Её задачи — дать стране в кратчайшее время красных специалистов по всем отраслям государственного строительства… Партия ныне должна сделать следующий шаг в завоевании высшей школы, в которой до сих пор господствуют еще буржуазный учёный и буржуазная идеология, нередко переходящая даже к прямому наступлению на основы научного марксистского мировоззрения». В качестве первоочередных задач определялось: «Принять активное участие в кампании по проведению нового устава вузов через комячейки студентов и комфрак-ции преподавателей… Принимать, действуя на основе устава вузов, через местные и профсоюзные органы. Активное участие в подборе руководящего состава вузов и рабфаков — их правлений, советов и факультетов» [1].
Представителей технической интеллигенции решено было использовать, и тех, кто согласился сотрудничать с советской властью, приняли на работу. Гуманитарная интеллигенция вызывала большие подозрения, с ней работа велась в двух направлениях: с одной сторо- ны, тех, кто выразил активное несогласие с политикой советской власти, репрессировали и высылали за границу; с другой — в связи с острой необходимостью распространения идей новой власти были предприняты усилия по созданию новой классово-сознательной гуманитарной интеллигенции.
От старых профессоров, которым разрешено было остаться преподавать по рекомендации В. И. Ленина, требовали знания марксистской литературы и сдачи специального марксистского экзамена. «Само собой разумеется, что эта картина профессора, переучивающегося «говорить по-марксистски», показалась нам неслыханным и совершенно нереальным новшеством. К осуществлению этого лозунга мы подошли позже всего и только недавно ввели обязательный экзамен по марксизму для лиц, претендующих занять кафедру в наших ФОНах. Ожидали больших затруднений — не встретили никаких. Экзамены держат даже с удовольствием. А некоторые (и даже из очень старых!) вдруг открыли, что они всегда были марксистами» [2] .
Целью власти было добиться трансформации политической и философской позиции представителей высшей школы, что в принципе почти удалось, так как стабилизация внешней и внутренней жизни страны, наличие свободы дискуссий в рамках марксистской парадигмы создавали благоприятный фон. Представители «старой» школы соглашались идти на компромисс и высказывали внешнюю симпатию к марксизму. Им не доверяли преподавание, но не запрещали заниматься исследовательской деятельностью. В 20-е годы было создано множество гуманитарных институтов и комиссий (в 1921 году было создано несколько археографических комиссий при Академии наук, в 1926 году создана Русско-византийская историко-словарная комиссия, в 1928 году — Институт изучения буддийской культуры). Но к началу 30-х годов они были либо закрыты, либо реорганизованы под контролем идеологически подготовленных историков нового поколения.
Для подготовки кадров в 1918 году была создана Коммунистическая академия, в 1919 году — Коммунистический университет имени Свердлова, в 1921 году был образован Институт Красной профессуры (ИКП). Но эти учреждения не могли решить задачу, так как прием в них был жестко лимитирован по классовому принципу. Преобразовывались старые университетские центры: в 1919 году по решению Советского правительства в МГУ, СПбГУ, КазГУ создаются факультеты общественных наук (ФОН), на которых преподавались все гуманитарные дисциплины. Декретом Совнаркома от 4 марта 1921 года было введено обязательное преподавание минимума по общественным дисциплинам, в качестве базового в него входил курс исторического материализма. Переломным для учёных-гуманитариев стал 1923 год, когда были ужесточены требования к научным сотрудникам второго разряда. Весной 1924 года был утвержден список обязательной марксистской литературы, знание которой было необходимо.
Новая власть создавала новые научные учреждения, в том числе научно-исторические центры: в 1919 году в Ленинграде была учреждена Государственная академия истории материальной культуры, в 1921 в Москве основан Институт истории (в его состав входили не только марксисты, но и старая университетская профессура). В 1926 году при Коммунистической академии организовали Общество историков-марксистов, которое выпускало журнал «Историк-марксист». История стала исследоваться исключительно на основании принципов диалектического материализма, в социальноэкономическом ключе, на основании формационного подхода, контуры которого постоянно уточнялись во все более идеологизированных дискуссиях. Центр исследовательской деятельности сотрудников исторических институтов переориентировали на изучение новейшей истории Запада и России.
Качество подготовки историков как специалистов катастрофически падало. Получивший распространение «лабораторно-бригадный» метод обучения, прекращение чтения систематических лекционных курсов, отмена экзаменационных сессий, уход из университета квалифицированных специалистов пагубно сказались на подготовке студентов. В 1926 году, выступая на методической конференции, одна из преподавательниц заявила: «Если мы сделаем опрос наших историков, то мы увидим, что мы больше понимаем историю, чем знаем её. А понимаем мы её, потому что учили Ленина, а не Милюкова, Ключевского и еще целый ряд историков» [3].
Главной задачей факультетов общественных наук (ФОНов) была подготовка идеологических кадров, которые смогут распространять марксистские идеи. Сокращались предметы и объем часов, отводимый на всеобщую и отечественную историю. Ю. Ларин, один из идеологов, в 1924 году писал: «Возьмем преподавание истории… Полагается сейчас более или менее знать первобытную историю, древнюю историю, среднюю историю, новую историю, новейшую историю. Что если от каменного и металлического «доисторического» человека, познакомив вкратце с логикой возникновения товарного хозяйства, с его надстройкой, перейти прямо к истории последних десятилетий?». Предлагалось упростить преподавание, исключив ненужную информацию: «Представим себе, что «от Рождества Христова» прошло не две тысячи лет, а еще двадцать тысяч лет. Неужто и тогда все еще учить об Олеге, Иване Калите и «Соборном уложении царя Алексея» [4]. Этот подход также распространялся на подготовку специалистов-историков. В 1927 году в журнале «Историк-марксист» было написано, что история развития общественных форм исследует этапы, общие всем народам, независимо от некоторых характерных отличий. В ходе исторического развития каждого из этих народов есть общие черты, поэтому достаточно изучить историю одной страны [5].
Лидер советской исторической науки М. Н. Покровский, определяя задачи института истории при Комакадемии в 1929 году (предварительно ликвидировав институт истории РАНИОН, в котором еще работали ученые, получившие подготовку до революции), сказал: «Ни западной истории, ни русской истории, ни древней истории, ни средней истории, ни новой истории, ни новейшей истории — ничего нет! …Мы решили таким образом организовать нашу работу в Институте, чтобы она была сосредоточена около основных нескольких крупнейших исторических проблем» [6] . Имелись в виду история империализма, история эпохи промышленного капитала, история пролетариата в СССР. В результате произошло насаждение узкой специализации историков [7].
Осенью 1928 года состоялось совещание историков и пропагандистов, организованное по инициативе Агитпропа ЦК и принявшее решение покончить с плюрализмом, который еще был на «историческом фронте». М. Н. Покровский выступил за расформирование РАНИОН, который был местом, где сохранялись старые кадры. В 1929 году генеральный секретарь ВКП(б) И. В. Сталин (1878—1953), выступая перед аграрниками-марксистами, призвал ликвидировать разрыв между теорией и практикой, что предполагало уничтожение разнообразия.
На период 1929—1932 годов приходится несколько компаний, направленных против исторического сообщества. В 1929 году началось «Академическое дело», по которому преимущественно проходили историки, этнографы и краеведы. Академика С. Ф. Платонова обвиняли в создании мифического «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». По делу, кроме него, были арестованы академики-историки Е. В. Тарле (1874—1955), Н. П. Лихачев (1862—1936), М. К. Любавский (1860—1936); члены-корреспонденты С. В. Рождественский (1868— 1934), В. Н. Бенешевич (1874—1938), А. И. Яковлев (1878—1951); профессора А. И. Андреев (1887—1959), Ю. В. Готье (1873—1943), С. В. Бахрушин (1882—1950). В подготовке восстания, связи с иностранными разведками, создании нелегальных кружков обвиняли известных историков С. К. Богоявленского (1871—1947), Б. А. Романова (1889—1957), П. Г. Васенко (1874—1934), В. Г. Дружинина (1859—1937), М. Д. Присёлкова (1881—1941) и др. [8].
В июле 1930 года после XVI съезда ВКП(б), на котором И. В. Сталин и первый секретарь московского комитета ВКП(б) Л. М. Каганович (1893— 1991) выступили за исправление линии в национальном вопросе и борьбе с национализмом, началась борьба с великодержавными тенденциями в исторической литературе. В великодержавном национализме обвиняли С. Ф. Платонова, М. К. Любавского, С. В. Бахрушина, В. В. Бартольда. К началу 30-х годов завершился разгром традиции отечественной исторической науки. Большинство старых учёных были вытеснены с профессионального поля, кроме тех, кто принял марксизм и ту проблематику, которая была продиктована партийными функционерами. Была навязана жёсткая схема пони- мания исторического процесса (исторический материализм), никаких методологических и философско-исторических поисков проводить не было возможности. Сфера деятельности историков была ориентирована на сбор фактов (краеведение, палеография, источниковедение1); чем уже была тема, тем меньше внимания она могла привлечь и обеспечивала исследователю отсутствие внимания к своей персоне.
-
1. КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963. С. 300—331.
-
2. Покровский М. Н. Чем был Ленин для нашей высшей школы // Правда. 1924. 27 янв.
-
3. Цит. по: Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х — начале 30-х годов ХХ века // Отечественная история. 1994. № 3. С. 154.
-
4. Ларин Ю. Советы и интеллигенция. Хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат. М. [б. г.]. С. 83—84.
-
5. Историк-марксист. 1927. Т. 6. С. 202.
-
6. Покровский М. Н. Институт истории и задачи историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. Т. 14. С. 5, 8.
-
7. Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х — начале 30-х годов ХХ века // Отечественная история. 1994. № 3. С. 148.
-
8. Перченок Ф. Ф. К истории Академии наук: снова имена и судьбы // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М. ; СПб. : Феникс, 1995. С. 141—210.
Список литературы Историческая наука под контролем Советской власти
- КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963. С. 300-331.
- Покровский М. Н. Чем был Ленин для нашей высшей школы//Правда. 1924. 27 янв.
- Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х -начале 30-х годов ХХ века//Отечественная история. 1994. № 3. С. 154.
- Ларин Ю. Советы и интеллигенция. Хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат. М. . С. 83-84.
- Историк-марксист. 1927. Т. 6. С. 202.
- Покровский М. Н.Институт истории и задачи историков-марксистов//Историк-марксист. 1929. Т. 14. С. 5, 8.
- Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х -начале 30-х годов ХХ века//Отечественная история. 1994. № 3. С. 148.
- Перченок Ф. Ф. К истории Академии наук: снова имена и судьбы//In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб.: Феникс, 1995. С. 141-210.