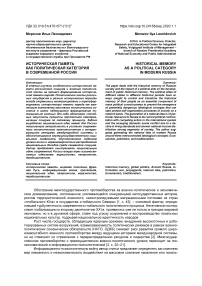Историческая память как политическая категория в современной России
Автор: Морозов Илья Леонидович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье изучены особенности исторической памяти российского социума и влияние политической элиты на процесс формирования исторической памяти народа. Политические элиты различных государств в разные исторические периоды всегда стремились контролировать и трансформировать историческую память народа как важнейшую компоненту массового политического сознания в целях недопущения формирования потенциально опасных для себя идеологем, способных запустить процессы протестной самоорганизации социума по сетевому принципу. Задача выработки национальной идеи имеет для России повышенную актуальность в условиях современного политического противостояния с конкурирующими акторами международной системы и обозначающегося внутригосударственного социального конфликта, обусловленного падением уровня жизни и неравномерностью распределения национальных доходов среди сегментов социума. Автор предлагает выстраивать национальную идею современной России вокруг трех взаимосвязанных идеологем: евразийство, патриотизм, традиционализм.
Историческая память, мировая политика, древняя русь, информационная война, пропаганда, национальная идея, патриотизм, евразийство, традиционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149132548
IDR: 149132548 | УДК: 32.019.51(470+571)“312”
Текст научной статьи Историческая память как политическая категория в современной России
Обострение межгосударственного противоборства за военно-политическое и экономическое доминирование, осложненное усиливающейся конкуренцией негосударственных акторов, ростом террористической опасности, неконтролируемыми миграционными потоками из стран «глобального Юга» в государства «глобального Севера» [1, с. 43], – ключевой фактор, определивший турбулентность современного глобального политического процесса. Негативные последствия глобализации ко второму десятилетию XXI в. проявились уже не только в трендах мировой экономики, но и в духовной сфере, ставя под угрозу сохранение и воспроизводство локальных национальных культур, подрывая национальную идентичность народов.
Рост числа государств, обладающих ядерным оружием, внедрение высокоточных и роботизированных систем вооружений, взаимозависимость политических режимов в рамках военнополитических союзнических обязательств (НАТО, ОДКБ) снижают риск развития прямого широкомасштабного военного противоборства между ведущими акторами международной системы, но не отменяют их стремления к перераспределению ресурсов и лидерства [2]. Межгосударственное противоборство с преимущественно военно-политического уровня переходит на гео-экономический и информационно-психологический [3, с. 20–21].
Информационно-психологическую войну автор статьи предлагает определять как комплекс мер невоенного и неэкономического воздействия на массовое сознание населения или локаль- ные целевые аудитории (например, политическая элита, национальные меньшинства, религиозные лидеры и т. д.), оказываемого актором межгосударственного противоборства на своего оппонента в целях изменения сложившихся морально-ценностных и социально-оценочных установок (взгляды на власть, оппозицию, понимание справедливости, национальной идеи, государственного лоялизма и т. д.) его подданных с последующей модификацией их политического поведения в выгодную для себя сторону.
Особенностью современного информационно-психологического противоборства является фактор качественного усиления влияния деструктивных политических акторов, не достигших стадии полноценной государственности, но уже контролирующих некоторое геополитическое пространство («Исламский халифат» - ИГ/ИГИЛ; террористическая организация, чья деятельность запрещена в России). В рамках противодействия пропаганде со стороны «Исламского халифата» Россия и другие государства столкнулись с рядом новых вызовов, эффективный ответ на которые удается найти далеко не сразу. Например, возникает феномен социальной пропагандистской сети, когда удаленный от предстоящего региона действий «интеллектуальный центр» террористической группировки генерирует пропагандистские идеологемы и публикует их на своих интернет-ресурсах, а далее их добровольные помощники (в том числе случайные лица, действующие без умысла) вирусным принципом распространяют информацию в различных сегментах Всемирной сети. Запретительная реакция государственных служб отстает от темпов распространения данных идеологем, деструктивная информация попадает в мессенджеры, «заражает» социальные сети и в итоге находит конечного потребителя. В роли последнего часто выступает индивид-одиночка, находящийся в пограничном психическом состоянии, обостренно воспринимающий смысловые раздражители, поступающие из внешней среды.
Именно подобный тип террориста-одиночки, спонтанно склонившегося к идее совершения теракта и использующего доступные подручные средства в качестве оружия, сложнее всего обнаруживается правоохранительными органами до совершения преступления. Гюльчехра Бобо-кулова до 29 февраля 2016 г. не вызывала подозрений ни у российских силовых структур, ни в московской семье, где выполняла обязанности няни, пока не совершила убийство четырехлетней девочки, после чего продемонстрировала отрезанную голову на улицах Москвы, выкрикивая исламистские лозунги. Мохамед Лауэж-Булель считался законопослушным мигрантом с видом на жительство во Франции и не имел претензий со стороны французских спецслужб, пока не совершил теракт 14 июля 2016 г. в Ницце, направив грузовой автомобиль в массу туристов, в результате чего погибло 86 человек.
Подобные трагедии периодически происходят в современном социуме не только в результате прицельного воздействия пропаганды, но и в силу общего падения духовно-нравственных основ, когда чувство социальной несправедливости (глубокое материальное расслоение, закрытие «социальных лифтов») накладывается на личностный эгоизм и культ насилия как способа мести за возникшие жизненные проблемы. Причем агрессивные действия «террориста» данного рода направляются на ближайшее социальное окружение, беззащитное перед агрессией и, как правило, не имеющее отношения к возникновению означенных проблем. Примером служит трагедия в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г., унесшая жизни более 20 человек. Хотя понятие «террористический акт» предполагает обязательное наличие политического мотива преступления, аполитично мотивированная социальная агрессия начинает представлять все большую угрозу для российского общества, не уступая по масштабам последствий террористическим актам.
На современном этапе развития Россия находится в активном поиске общенациональной идеи, способной решить задачи как внутренней интеграции поликонфессионального и полиэтнического сообщества, рассредоточенного на обширной территории от берегов Тихого океана до гор Северного Кавказа, так и социальной мобилизации для активного противодействия геополитическим оппонентам. Национальная идея как смысловой конструкт призвана выполнять триединую функцию:
-
- формирование образа достижимого (хотя бы в теории) желаемого будущего;
-
- толкование объективной справедливости («правильности») сегодняшнего настоящего;
-
- укрепление понимания героического прошлого как фундамента всей цивилизации. Этот компонент основывается на исторической памяти социума.
В самом общем виде историческую память можно трактовать как совокупность знаний и представлений социума о своем прошлом [4, с. 147]. Причем образ прошлого формируется как синтез общего и частного: «…коллективная и индивидуальная памяти невозможны друг без друга, только в их взаимопроникновении можно найти источник для подлинного самопознания и осмысления прошлого и настоящего» [5, с. 84]. В качестве политической категории историческую память можно определить как основой элемент конструирования массового политического со- знания, включающий в себя устойчивый общепринятый конгломерат оценочных суждений относительно прошлого своего народа применительно к пониманию механизма субъект-объектных отношений государственного управления и реализации иных форм политической власти в социуме. Методология изучения различных аспектов исторической памяти находится в центре внимания современной российской политической науки [6].
Историческая память позволяет народу позиционировать себя в рамках мировой цивилизации, представлять свою «историческую миссию» созидательного характера. Вокруг данной категории развертывается жесткое информационное противоборство, итогом которого является реализация права народа самостоятельно формировать свою историческую память или утрата данного права. Последнее, как правило, выступает следствием военных катастроф (Германия 1945 г.) или поражений в межцивилизационном геополитическом противостоянии (СССР 1991 г.). Г. Герасимов в связи с изложенным считает уместным ввести понятие исторического суверенитета: «право государства на самостоятельную трактовку своего прошлого и признание верности этой трактовки другими государствами и обществами» [7, с. 54].
Историческая память российского народа как политическая категория на протяжении всего его развития постоянно подвергалась трансформирующему воздействию со стороны собственной правящей элиты, опасавшейся возникновения неконтролируемой самоорганизации народных масс, которая с высокой долей вероятности носила бы протестный, антиэлитный характер. Для достижения этой цели могли применяться такие информационные методы, как разрушение представления народа о своей истории как целостном процессе, противопоставление одних фрагментов исторической памяти другим, искажение трактовки исторических событий и отвлечение внимания от «неудобных» фактов истории.
Формирование и развитие российской государственности было сопряжено с рядом объективных особенностей, заложивших основу долговременных социально-экономических и социально-политических конфликтов [8, с. 7–53], для иллюстрации которых в рамках статьи достаточно упомянуть два.
Первым фактором выступили неблагоприятные природно-климатические условия, ведущие к низкой производительности крестьянских хозяйств (основного источника податей) и потому способствовавшие формированию государственного аппарата экспроприационно-репрессивного типа. Недоверие к собственным подданным, перманентное ожидание бунта и готовность его максимально жестоко подавить стали отличительными чертами политической психологии российской элиты.
Вторым фактором являлся сложный путь формирования правящего слоя и развития централизованной власти у древних славян. Даже не принимая «норманнскую теорию» в ее классической трактовке, автор статьи считает допустимым признать как минимум значительное влияние варяжского элемента на формирующуюся правящую социальную страту. Славяно-скандинавская русская знать IX–X вв. воспринимала подконтрольную территорию как геополитический плацдарм для военных походов на Константинополь [9] и лишь остановленная Византийской империей после смерти князя Святослава приступила к процессу полномасштабного государственного строительства Древней Руси, формированию долгосрочных геополитических направлений внешней политики.
На протяжении последующих столетий вплоть до начала XXI в. особенности внешней и внутренней политики российского правящего класса позволяют предположить, что территория собственного государства воспринималась в первую очередь как универсальная военная база, хранящая и воспроизводящая стратегический резерв для внешних войн и подавления внутренних смут, и только во вторую или даже в последнюю очередь – как территория духовно-культурного развития, экономического процветания, воспроизводства качественного «человеческого капитала», ориентированного на невоенные сферы науки, искусства, социальной активности.
Историческая память российского народа может быть охарактеризована следующими чертами.
-
– Доминирует модель восприятия истории именно как истории Русского государства, другие народы России сохраняют своеобразие восприятия, но политические процессы в большей степени замкнуты на русскую модель.
-
– Историческая память русского народа, в отличие от политической элиты, в меньшей степени ориентирована на территориальный императив, поэтому относительно безболезненно были восприняты территориальные уступки, на которые пошла Российская Федерация в спорах с Китаем, Норвегией, США. Провал геополитического проекта «Новороссия», подразумевавшего отделение от Украины обширных территорий вплоть до Одессы с последующей перспективой их входа в состав РФ, также не стал национальной травмой.
-
– Историческая память русского народа характеризуется неустойчивостью и кратковременностью геополитического образа народа-врага, с которым ранее шли кровопролитные войны. В настоящий момент нет широкой неприязни к шведам, французам, туркам, японцам, немцам.
-
– В то же время присутствует постимперский «травматической синдром», вызванный утратой великой державы мирового уровня (СССР) и сменой геополитических ориентиров стран Восточной Европы в сторону антироссийской позиции.
-
– Присутствует историческая персонификация образа верховной власти, который связывается с конкретной фигурой национального лидера.
Информационная политика современной России во многом базируется на сакрализации образа Великой Победы и всей истории Великой Отечественной войны. Данная идеологическая конструкция достаточно хорошо раскрыта в отечественной науке [10] не только политологами, но и историками и социологами, поэтому целесообразно отметить лишь связанные с информационно-идеологической эксплуатацией данного образа недостатки.
-
– Желание «приукрасить» историческую действительность, обретающую характер священной, сакральной, а значит и непогрешимой, приводит к возникновению исторических мифов, которые могут быть устойчивы на определенном отрезке времени, но разрушаться на другом. В 1980-е гг. разрушающиеся исторические мифы советской истории, созданные предшествующими правителями, внесли весомый вклад в провал реформ М.С. Горбачева, потерю им власти и распад Советского Союза. В настоящее время ряд героических эпизодов истории Великой Отечественной войны противниками политического режима В.В. Путина подвергается критике с позиций «исторической объективности», например подвиг 28 панфиловцев. Пока эта критика не находит массового отклика в политическом сознании социума, но нет гарантии, что так будет всегда. Поэтому с осторожностью нужно относиться к позиции отдельных государственных служащих, считающих приемлемым практику исторического мифотворчества. Например, министр культуры РФ В.Р. Мединский так сформулировал свою позицию: «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца… это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться» [11].
-
– Постоянное подчеркивание ведущей роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, что является «становым хребтом» современной российской информационной политики, воспринимается как неоспоримая данность русской аудиторией, но вызывает раздражение в зарубежных странах.
-
– Интенсивное использование образа Великой Отечественной войны современной российской информационной машиной для укрепления легитимации действующего политического режима может сформировать упрощенное восприятие этого исторического события, когда внешний визуализированный образ (исторические реконструкции и игры, снятые в жанре экшен художественные фильмы и т. д.) заслонит собой рациональное восприятие, несущее историческое знание, из которого можно извлечь объективный опыт на будущее, тем более что дискуссии по спорным вопросам, связанным с этим событием, официально не приветствуются [12].
-
– В недостаточной степени используются образы исторической памяти русского народа более далеких исторических периодов, чем Великая Отечественная война, а обращение к дохристианским религиозно-духовным корням восточнославянских племен и вовсе грозит обвинением в политическом экстремизме (так называемое родноверие). По вполне понятным политическим мотивам введенная в СССР информационная тенденция «русское» в историко-пропагандистских идеологемах по возможности подменять «советским» нашла продолжение в современной практике замены «русского» на «российское» в расчете на укрепление многонационального государства.
Ослабление исторической памяти народа не только формирует его уязвимость перед внешним информационно-пропагандистским воздействием, порождая спектр угроз из арсенала информационно-психологической войны, но и открывает новое «окно возможностей» для возрождения в самом социуме националистической идеологии, пусть пока в ее достаточно умеренных и осторожных формах [13, с. 480–501; 14, с. 544–583]. Как отмечалось в исследовании А.Н. Харыбина, российская политическая элита не может представить социуму официальную национальную идею. Среди неофициальных автор выделяет следующие: «Путин – лидер», «Запад плохой», «Выжить и страдать», «Защитим духовность» [15, с. 116]. Данный перечень может быть продолжен, однако это скорее набор идеологем, призванный легитимировать политический курс современной России, но не способный на уровне массового политического сознания объяснить ни прошлое, ни будущее нации.
Исходя из исследованных категорий исторической памяти, можно предложить смысловую конструкцию из трех взаимодополняющих блоков, объясняющих историческое время существования российского социума:
-
– евразийство (Россия как интегратор народов Востока и Запада);
-
– патриотизм (гордость за прошлое и настоящее государства, особое почитание ратных подвигов);
-
– традиционализм (Бог, семья, трудолюбие).
Глобализация в формате вестернизации породила слишком большой круг проблем, «побочных эффектов» [16, с. 5–6], чтобы стать успешной моделью интеграции человечества в единую систему. Закономерно обозначился реверс данного процесса, ставший особенно заметным во втором десятилетии XXI в. (Брекзит, каталонский сепаратизм, разногласия в Евросоюзе по миграционной проблеме, отказ США от проекта Транстихоокеанского партнерства и пересмотр торговых отношений с партнерами по НАФТА и с Евросоюзом), – к локализации, поиску национальной идентичности, воссозданию культурной уникальности. Россия как одна из стран, чей социум сохранил историческое тяготение к традиционализму, обретает шанс не только сформировать альтернативную вестернизации модель политического сознания, но и выступить примером, союзником и лидером для целого ряда государств, включая европейские, стремящихся защитить границы от нежелательного внешнего экономического, информационного и демографического давления.
Подводя итог, можно отметить, что для оптимизации государственного управления сферой информационной безопасности во внутрироссийском пространстве следует больше внимания уделять не только государственническому, но и гражданскому патриотизму, не только диалогу четырех традиционных конфессий, но и формированию так называемой «гражданской религии». Использование образа Великой Отечественной войны должно стать гибче и многограннее, с исключением формализма и преодолением боязни публичных дискуссий по спорным историко-патриотическим темам. Рекомендуется также избегать упрощенного применения «образа врага» к политической оппозиции и сформировать полноценный коммуникативный процесс с некоммерческими организациями, общественными движениями, активнее способствовать формированию гражданского общества, основанного как на уважительном отношении к государству и закону, так и на соблюдении прав и свобод человека и гражданина.
Ссылки:
с англ. В. Желнинова. М., 2017. 480 с.
(дата обращения: 03.01.2018).
Список литературы Историческая память как политическая категория в современной России
- Прибытков Ю.Б. Глобальные демографические изменения и фактор политической культуры // Наука Красноярья. 2017. Т. 6, № 3. С. 41-55. DOI: 10.12731/2070-7568-2017-3-41-55
- Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис / пер. с англ. М.Н. Десятовой. М., 2014. 288 с
- Блэквилл Р.Д., Харрис Дж. Война иными средствами. Геоэкономика и искусство управления государством / пер. с англ. В. Желнинова. М., 2017. 480 с
- Репинецкая Ю.С. К вопросу о содержании понятий "историческое сознание" и "историческая память" // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18). С. 147-151
- Клейтман А.Ю., Клейтман А.Л. Историческая память и механизмы социокультурной преемственности // Научный вестник Волгоградской академии государственной службы. Политология и социология. 2010. № 2/4. С. 82-85
- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сборник научных трудов / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. М., 2018. С. 27-53
- Герасимов Г. Исторический суверенитет и историческая политика // Эксперт. 2018. № 11. С. 54-56
- Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Книга первая. Ростов н/Д., 1998. 608 с
- Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX - первая половина X в. М., 1980. 356 с
- Быков А.В. Историческая память о Великой Отечественной войне и современная политика // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2016. № 2 (10). С. 66-70
- Шевцов В.М. Великая Победа: историческая память и современность // Вестник Военного университета. 2010. № 2 (22). С. 5-11.
- Мединский назвал "кончеными мразями" сомневающихся в подвиге панфиловцев [Электронный ресурс] // МИА "Россия сегодня". 2016. 4 окт. URL: https://ria.ru/society/20161004/1478502045.html (дата обращения: 03.01.2018)
- Президент Дмитрий Медведев высказался категорически против того, чтобы дискуссии по историческим вопросам становились частью учебного процесса [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. 2009. 18 сент. URL: https://echo.msk.ru/news/621041-echo.html (дата обращения: 03.01.2018)
- Саррацин Т. Германия: самоликвидация / пер. с нем. Т.А. Набатниковой. М., 2016. 560 с
- Бьюкенен П. Самоубийство сверхдержавы / пер. с англ. К.М. Королева. М., 2016. 640 с
- Харыбин А.Н. Проблемы формирования положительного образа России среди населения западных стран // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социология. 2017. № 1. С. 114-119
- Кондратьев В. Новый этап глобализации: особенности и перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2018. № 6. С. 5-17