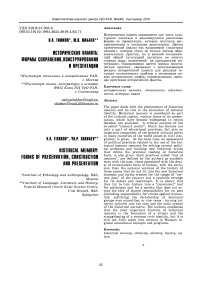Историческая память: формы сохранения, конструирования и презентации
Автор: Тишков В.А., Шабаев Ю.П.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 4 (40), 2019 года.
Бесплатный доступ
Историческая память оценивается как часть культурного капитала и анализируются различные формы ее презентации, которые получили распространение в последние десятилетия. Дается критический анализ так называемой «политики памяти», которая стала не только частью образовательных практик, но и важной составляющей общей культурной политики во многих странах мира, нацеленной на гражданскую интеграцию. Одновременно дается оценка политических практик, связанных с использованием ресурса исторической памяти для решения текущих политических проблем и построения новых исторических мифов, опровергающих прежнее прочтение исторических фактов.
Историческая память, этничность, идентичность, история, нация
Короткий адрес: https://sciup.org/149128871
IDR: 149128871 | УДК: 316.6:37.035.6 | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-4-62-71
Текст научной статьи Историческая память: формы сохранения, конструирования и презентации
Известный российский специалист в области этнополитики Л.М.Дробижева замечает: «Представления и чувства идентичности формируются системой образования, СМИ и художественной культурой, символами и ритуалами, языком, религией, историческим наследием как частью культурного капитала» [1]. В этой связи полезно обратить внимание на такую важную составляющую культурного капитала нации, как ее историческая память. «В современном гуманитарном знании концепция исторической памяти стала одной из самых востребованных. К ней обращаются не только историки, но также социологи, культурологи, писатели и, конечно, политики. К сожалению, должного понимания сути этого явления нет. Очень часто история и историческая память воспринимаются как синонимы, однако это не так... Изучение истории направлено на наиболее точное отражение прошлого... Наоборот, устная традиция передачи информации о прошлом мифологична. Она характеризуется тем, что память сохраняет и “воспроизводит” сведения о прошлом на основе воображения, порожденного чувствами и ощущениями, вызванными настоящим. Воспоминания о прошлых событиях, как давно уже установили психологи, воспроизводятся через призму настоящего. Недаром у древних греков Мнемозина была одновременно богиней памяти и воображения», – пишет М.В.Соколова [2].
Очевидно, что знание о прошлом, поддерживаемое с помощью системы образования, идея исторической преемственности поколений, культивируемые в информационном пространстве представления об общем происхождении народа, общих подвигах и героях, общих потерях и потрясениях, позволяют формировать разделяемые обществом в целом представления о прочном и исторически обусловленном единстве граждан той или иной страны.
Формы исторической памяти и способы ее актуализации
Формы исторической памяти могут быть различными. Как подчеркивает О.Леонтьева, «в сфере внимания специалистов по исторической памяти находятся “коммуникативная память”, охватывающая воспоминания трех-четырех живущих ныне поколений, – и “культурная память”, соединяющая современность с давним прошлым; память “мягкая” (личная, субъективная, запечатленная в дневниках и воспоминаниях), – и память “жесткая” (закрепленная в форме разнообразных “мест памяти”, музейных экспозиций, календаря официальных памятных дат, мемориалов и церемониалов); обыденные представления о прошлом – и эволюция профессиональных, научных практик историописания» [3]. Однако, при всем различии форм исторической памяти очевидно, что память эта начинается с отдельной личности и ее окружения, т.е. это чаще всего семейная память, связанная с памятью о поколениях предков, с которыми человек связан кровно-родственными связями. Обычно у современ- ных людей эта память не очень глубока и не распространяется глубже, чем на третье-четвертое поколения кровных родственников, но у многих народов память о предках имеет важное символическое значение и их представители знают всех своих предков вплоть до десятого поколения и более, а традиции поминовения предков являются важной частью их культуры (хотя они в той или иной форме есть в любой этнической культуре). Семейная память нередко передается в устной форме, как и местные предания о первопоселенцах села, об истории его возникновения, о прошлой жизни. Но свою роль играют и личные архивы, биографические описания, семейные фотоальбомы и реликвии, такие, к примеру, как ордена и медали, полученные за подвиги на различных войнах, старинные сарафаны, пошитые еще прабабушками, иконы, передающиеся по наследству и иные материальные свидетельства прошлой жизни. К сожалению, в России народ, который пострадал от революций и войн в ХХ в. больше, чем многие другие народы Европы, овеществленных элементов памяти в семьях сохранилось немного. Но потребность в ее актуализации есть, о чем свидетельствует распространяющаяся практика создания семейных музеев и необычайно выросший интерес к семейной родословной и превращение поисков родословной в процветающий рынок генеалогии, на котором действуют различные компании, а его информационным обеспечением заняты различные сайты, типа всемирно известного MyHeritage [4]. При этом именно семейная память является мощным ресурсом, с помощью которого возникают общественные движения, призванные институционализировать эту память и сделать ее общенациональным достоянием. Именно таким образом возникло движение «Бессмертного полка», которое играет важную роль в патриотической консолидации российской нации. При этом сама память о предках, прошедших Отечественную войну, актуализируется, а выход 9 мая с портретами участников войны их внуков и правнуков становится актом соединения семейной памяти и памяти нации.
Но, безусловно, решающую роль в процессе институциализации исторической памяти , т.е. превращение ее в некий публичный культурный и политический ресурс, играет государство . Оно формирует «социальный заказ», а его исполнением занята наука и в первую очередь это наука История. Однако, если в предшествующие эпохи история воспринималась профессиональными историками и простыми людьми как «наставница жизни», то опыт ХХ столетия с его мировыми войнами, холокостом и прочими актами массового геноцида привел интеллектуалов к разочарованию в позитивной направленности и предсказуемости исторического развития, что повлекло за собой сомнения в созидательной роли гуманитарного знания. К концу века все же укоренилось убеждение в том, что важнейшей функцией истории является сохранение и трансляция социальной памяти, которая стала рассматриваться как инструмент, с помощью которого общество приходит к самопониманию.
Но, как и память личная, институционализированная историческая память носит избирательный и творческий характер, а формы объяснения прошлого и смысловые акценты, которые подчеркиваются в историческом описании, определяются нормами и потребностями как современной культуры, так и политической конъюнктурой. Отсюда возникают и разные трактовки прошлого: от поисков и обоснований «золотого века» и «потерянного рая» до описаний «проклятого прошлого» и «темных времен», его прямого отрицания и осуждения.
Современная восточноевропейская политика памяти и «войны памяти»
Особенно значимой становится проблема отношения к прошлому тогда, когда общество проходит через период серьезных социальных трансформаций, ломки прежнего уклада жизни и прежних стереотипов мышления. На этом этапе в сознании людей обычно сталкиваются и уживаются рядом не схожие, а подчас и противоположные исторические сценарии и трактовки. И здесь начинается борьба за прошлое и те самые «войны памяти», о которых следует сказать несколько подробнее.
Показательным примером обращения с историческим наследием является культурная политика Польши. До Второй мировой войны власти страны последовательно проводили линию на полонизацию этнических меньшинств, навязывание им ценности и нормы доминантной этнической группы. Самым масштабным свидетельством этого процесса стала операция, проводившаяся в 1938 г. силами Войска польского, в ходе которой была уничтожена треть православных храмов страны. Казалось бы, современная демократическая Польша не может повторять практику, которая направлена на уничтожение культурных и памятных символов, поскольку она вступила в семью демократических наций Европы. Но в польской политике памяти прослеживается показательная преемственность. Стерилизация культурного пространства страны продолжилась и в современную эпоху, когда Польша согласилась принять и признать культурные нормы и ценности Европейского Союза. В 2015–2016 гг. национальные и местные власти страны приступили к масштабному сносу памятников советским воинам, установленным после окончания Второй мировой войны на улицах и площадях многих польских городов, заявляя, что павшим место лишь на погостах. Уничтожение памятников поддержал Институт национальной памяти Польши (созданный для расследования преступлений нацизма и коммунизма), ибо в современной польской версии исторической памяти, которую он поддерживает, не может быть места памяти о простых солдатах, отдавших жизни за победу над нацизмом, если эти солдаты «чужие».
Символическая война с собственным прошлым и попытки за счет отрицания неудобных его страниц сконструировать образ непобежденной, торжествующей и при этом единой нации характерны для современных элит восточноевропейских государств. Так, в Венгрии день заключения Триа-нонского мирного договора в 1920 г. (согласно кото- рому венгерская часть Австро-Венгерской империи сокращалась втрое и возникшая на руинах империи Венгрия теряла значительную часть «исконных венгерских земель») празднуется в стране как День венгерского единства (в этот день устраиваются мероприятия у памятников, на которых очерчены границы «исторической Венгрии» – своеобразных надгробий на могиле «Великой Венгрии»), а корона святого Иштвана из Национального музея перенесена в парламент и объявлена конституционным символом. Однако политика, ориентированная на «символический реванш» и использование идеи прошлого величия в современной жизни, как правило, оборачивается ростом агрессивного национализма, расизма и антисемитизма, что и наблюдается ныне в восточноевропейских странах.
В постсоветскую эпоху в государствах Восточной Европы и Балтии получила распространение концепция «двойного геноцида», сторонники которой уравнивали нацизм и коммунизм и считали, что оба режима одинаково преступны и в равной мере были склонны к актам геноцида. С одной стороны, эта концепция была призвана оправдать кол-лаборционистов из Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии и ряда других стран, усилиями которых осуществлялись акты массового уничтожения евреев в своих странах, и более того – изобразить их «идейными борцами» с коммунизмом. С другой стороны, – это явное стремление исказить саму суть политики геноцида, понимание которой строится, во-первых, на идеологии, оправдывающей уничтожение целых народов, а с другой, – на практиках физического истребления людей, приобретающей массовый и системный характер. Примером такой трансформации понятия «геноцид» является экспозиция Музея геноцида в Вильнюсе. Примечательно, что этот музей в Литве обычно стараются называть «Музеем КГБ» и этим названием как бы символически снимается ответственность за уничтожение более 200 тыс. евреев (убитых на территории Литвы в годы немецкой оккупации самими литовцами, служившими у нацистов) и одновременно подмена названия преследует цель стереть память о «Литовском Иерусалиме» (довоенное неофициальное название Вильнюса).
Сегодня в государствах Балтии, Восточной Европы и на Украине, как уже сказано, идут «войны памяти» (и проводится специальная «политика памяти»), значение которых состоит в стирании из памяти нации не только неудобных исторических сюжетов, но и всего того, что требует ставить вопрос о ее ответственности за имевшие место преступления. «Политика памяти» в ее восточноевропейской версии есть не столько стремление к прозрению и познанию исторической правды, сколько явное историческое мифотворчество, имеющее целью превратить историю в «удобный» инструмент для политиков и для общества, не принимающего идею общей ответственности и покаяния или отторгающего меньшинства и меньшинственные культуры, ибо народы Восточной Европы предстают не как ответственные творцы истории, но только как жертвы, которым поэтому можно простить все, включая прежние преступления против человечности и современную дискриминацию меньшинств под предлогом их коллективной ответственности за преступления сталинизма, за прошлые обиды.
Болезненной темой дискуссий об историческом наследии является участие местного населения в истреблении евреев. Стремясь оправдать преступления, некоторые участники политических дебатов в этих странах утверждают следующее: евреи должны пенять на себя, поскольку они поддерживали советскую власть и сами были среди лидеров советизации в 1939–1940 гг. Союз писателей Литвы выпускает ежемесячный журнал «Metai», в котором в 1996 г. читатели могли прочесть статью писателя Йонаса Микелинскаса. В ней заявлялось, что в геноциде еврейского народа виноваты сами евреи, поскольку они массово поддерживали Советский Союз, за что и получили по заслугам. Ну, а если некоторые из литовцев и принимали участие в уничтожении евреев, то таких можно сосчитать по пальцам. Евреи же на протяжении всех шести веков проживания в Литве были враждебно настроены по отношению к литовцам.
Стоит заметить, что литовский агрессивный национализм (равно как латышский и эстонский) не только вызывает нарекания серьезных экспертов, но раздражает и некоторых представителей литовской творческой элиты. В частности, отношение к евреям, полякам и русским, которое укоренилось в литовском обществе, громко осудил известный публицист и поэт Томас Венцлова, который в июле 2016 г. опубликовал в журнале IQ статью «Я задыхаюсь», где он заявил, что сложившиеся в Литве культурные стереотипы не совместимы с современным плюралистическим обществом. Но, как это ни странно, нации, новейшая история которых связана с историческими травмами и болезненным переосмыслением прошлых ошибок и преступлений, ищут для себя комфортные модели объяснения прошлого через настоящее и через новое осмысление оппозиции «свой–чужой» не только в Европе, но и в Азии. В этом смысле восточноевропейское историческое мифотворчество в чем-то сродни японскому опыту «уничтожения истории» с помощью этнологии, которая призвана была обосновать уникальность японцев и японской культуры и за счет пропаганды «японизма» создать новую концепцию «японской нации», которой можно лишь любоваться как цветущей сакурой, но понять которую иностранцам невозможно, не говоря уже о том, чтобы осуждать какие-либо деяния этой нации и ее правящих кругов, совершенных в трагическом прошлом [5].
В Европе же борющиеся за политическое доминирование группы в обществах переходного типа, к которым относятся и все постсоветские страны, включая Россию, особое внимание обращают на т.н. «публичную», или «прикладную» историю», смысл которой нередко сводится не столько к популяризации профессионального исторического знания, сколько к обслуживанию отдельных групп, ассоциаций.
Важно заметить, что сегодня в ситуации культурного перехода оказались не только бывшие со- ветские республики и страны так называемого социалистического лагеря. Миграционный кризис, кризис мультикультурализма, сложные социальные проблемы приводят к тому, что историческое прошлое начинает пересматриваться даже в достаточно стабильных и процветающих обществах и здесь тоже идет поиск «приемлемых для общества» способов объяснения прошлого.
К слову, долгое время удачным примером использования исторической памяти в деле воспитания гражданского сознания являлась французская система образования. Здесь в школьной программе существуют специальные уроки граждановедения, а главной целью французской школы является воспитание Гражданина. Но резкий рост численности иммигрантских общин и попытки примирить культурный плюрализм с интеграционной политикой привели к тому, что «объединяющий нацию миф перестал быть частью общественного сознания, поскольку школа больше не понимает должна ли она проповедовать единство или культурную отличительность» [6].
Упомянутая выше современная восточноевропейская политика памяти строится на отрицании целого исторического периода в жизни этих стран, маркировании социалистической эпохи исключительно как «темного времени». Такая позиция антиисторична, но важно то, что она примитивизирует историю вообще и приводит к убогости индивидуального восприятия истории. В этом смысле показателен пример с популярным телеканалом History. В одной из передач, посвященной Чехии, речь зашла о чешской кухне и, отвечая на вопрос корреспондента программы почему чешская национальная кухня столь однообразна, шеф-повар одного из пражских ресторанов объяснил это наследием социалистической эпохи, хотя очевидно, что гастрономические традиции складываются веками и политический строй на них мало влияет. Но демонизация социалистического/советского прошлого стала универсальным способом объяснения всех общественных неурядиц в странах Восточной Европы, а равно и недостаточного разнообразия некоторых форм их материальной и духовной культуры.
Украинский исторический миф
Пожалуй, наиболее очевидными примерами инструментализации и политизации истории являются современные версии национальной истории Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Украины и ряда других бывших советских республик. При этом пример выстраивания украинского исторического мифа наиболее показателен. Для начального этапа современной украинской государственности (1991– 1994 гг.) было характерно активное использование истории в деле государственного строительства и формировании общенационального сознания. Историками доказывалась символическая связь между новоприобретенной украинской государственностью и государственным опытом Украинской Народной Республики, возникшей в ноябре 1917 г., но не признанной странами Антанты, оговаривая при этом правопреемство и с УССР, во время кото- рой собственно и сформировались как территория страны, так и ее государственные институты. Первый президент Украины Л.Д.Кравчук объяснял проблемы начального этапа нациестрои-тельства тяжелым наследием прошлого, представляя его как колониальную эксплуатацию Украины сначала имперской Россией, а затем тоталитарным советским режимом. Несмотря на провозглашенную многовекторность во внешней политике, следующий президент Л.Д.Кучма осторожно, но планомерно институционализировал историческую политику предшествующего периода [7]. И именно он «дал старт» историческому мифотворчеству и формированию радикального националистического мифа украинской истории.
«Исторический миф радикального национализма берет свои корни в работах украинских националистов межвоенного периода. В данном мифе воспроизводится идея непрерывности украинской государственности и нации, несмотря на её прерывность в историческом континууме. Особенностью рассказа о прошлом является удревнение истории вплоть до трипольской культуры и скифов… Ещё одной чертой является формирование “золотого века” на основе образа Киевской Руси, на который радикальные националисты проецируют свои взгляды и требования. Киевская Русь представляется как милитаризованная империя, которой противопоставляется сложившийся на Украине слабый и зависимый от внешних игроков политический режим. Исторический миф содержит в себе убежденность в деградации нации и государства, обусловленной русским колониальным господством, потерей государственности, духовной деградацией народа, неработающими общественными институтами. Культурный расизм вместе с этноцентризмом и эссенциализацией психологических различий также являются характерными чертами исторического мифа радикальных националистов» [7, с. 22–23].
Однако еще до полного утверждения радикального националистического мифа украинская история подверглась глубокой ревизии и произошло это в период 2005–2010 гг. В эти годы главной темой стали «миф о Голодоморе» и Украине как основной жертве тоталитарного советского режима, а также героизация борцов с советским строем – членов ОУН-УПА. Главная роль в этой политике принадлежала президенту В.А. Ющенко и его окружению, которые активно использовали историю для легитимации своих политических идей и взглядов. В 2006 г. был создан Украинский институт национальной памяти (УИНП), который создавался как важнейший инструмент, способствующий реализации государственной политики в сфере истории. На Украине подчеркивалось, что миссией Института национальной памяти должны стать «восстановление исторической правды» и новое прочтение истории Украины. На следующем этапе происходит некоторый пересмотр прежних исторических мифов. Так, в частности, политики и историки отказались от позиционирования голода 1932– 1933 гг. («Голодомора») как геноцида украинцев. В политическом дискурсе происходит синтез риторики обыденного национализма и советского опыта коммеморативных практик. При В.Ф.Януковиче в начале 2011 г. УИНП становится только научно-исследовательским учреждением, теряя свое значение института исторической политики. Но одновременно усиливаются попытки изменить языковую реальность и потому усиливаются призывы «”очистить” национальный язык, ”загрязненный” влиянием языка русского, осуществить орфографическую реформу языка». Требования такого рода реформы направлены на то, чтобы изменить национальную идентичность членов украинского общества и ослабить культурные связи с «бывшей империей» [8]. Кульминацией постсоветского исторического мифотворчества и «национализации истории» стал период, начавшийся после событий Евромайдана (2014 г.) и государственного переворота. УИНП вновь обретает статус органа исполнительной власти и инициирует принятие в апреле 2015 г. так называемого «мемориального пакета законов», посвященных оценке советского исторического наследия: осуждению СССР как коммунистического тоталитарного режима, ревизии советской версии Великой Отечественной войны, приравниванию коллаборционистов из ОУН‒УПА к солдатам Красной армии, уничтожению символов советского прошлого, «украинизации топонимики».
Усилия политиков, активно использующих националистическую риторику представить агрессивный национализм как позитивную практику на-циестроительства и изобразить украинскую нацию как этноцентричное сообщество, привели к тому, что часть украинского общества, особенно в областях юга и юго-востока Украины, перестала воспринимать себя естественной составляющей украинской нации. В официальном украинском политическом дискурсе принадлежность к нации требует от человека полной ассимиляции, отказа от русского или любого иного языка и, наоборот, – исключения из членов нации всех, кто не согласен с подобным положением дел и не готов считать события Евромайдана одной из основополагающих основ современной украинской государственности. Подобная модель нации таит угрозы для будущего страны и провоцирует внутренние конфликты. И в этом смысле стоит сослаться на замечание Этьена Франсуа: «Выбирая способ увековечить прошлое, нация одновременно выбирает свое будущее» [9].
Воспитание историей
Особое значение для формирования исторического сознания имеют так называемые места памяти, предназначение которых – воспитание историей. Места памяти представляют собой реальные или символические места, в которых воплощается коллективная память сообщества. Сейчас в Америке и в ряде других стран распространено мнение, что воспитание гражданской идентичности в значительной мере берет на себя так называемое образование наследием (heritage education), которое осуществляется через многочисленные музейные экспозиции, памятные места и экскурсии, а также через общественную среду в целом, включая семейное воспитание.
Воспитание историей – давний и важный инструмент в арсенале социальной инженерии. Музеи становятся важнейшим институтом го-сударствостроительства. На примере постсоветского пространства отметим, что у новых государств обычно мало ресурсов для музейного строительства, но они музеефицируют все, что можно узурпировать в пользу господствующего взгляда на природу государственных сообществ и их прошлое. Часто политические элиты этих государств изначально выбирают позицию избирательной презентации исторической памяти. «Мы – очень малые и можем представить лишь историю своей оккупации», – как бы говорят новые музейные экспозиции и даже целые «музеи оккупации» в Риге и Тбилиси. Пожалуй, лишь в Китае принята установка на «музеи для социальной гармонии», а экспозиции китайских музеев, помимо партийной идеологии, стремятся продемонстрировать в первую очередь глубину и целостность общекитайской историкокультурной традиции, хотя прошлое страны дает более чем достаточно материала для показа иностранного владычества, внутрикитайских конфликтов и трагедий.
”Хэритидж” имеет много аспектов, в том числе и туристско-развлекательный, но главное – он вызывает у человека гораздо больший, подлинный интерес, нежели выучивание домашнего задания. Образование через наследие помогает понять значение и место истории в настоящем, создает образ события или эпохи, чего, как правило, не может сделать учебный текст. Ознакомление с наглядными свидетельствами прошлого порождает важное ощущение, что все имеют историю, а отсюда рождается вкус к истории и развивается интерес уже за пределами школьного класса.
Конечно, у воспитания историческим наследием есть свои ограничители, не позволяющие ему вытеснить традиционное историческое образование, которое происходит через учебные образовательные курсы и канонические тексты. Памятники и другие прямые свидетельства, если только при этом нет сопровождающего исторического описания (через путеводитель или экскурсовода), несут в себе неполную историческую информацию, которая воспринимается без эмоций и с трудно уловимым чувством временной дистанции. Наконец, в образовании наследием заключена опасность антиуниверсализма: познается только то в истории, что можно увидеть в музее, вокруг себя или в случайных поездках по стране и миру. Именно поэтому «“хэритидж”, даже если он менее политизирован, чем учебный текст, – всего лишь дополнительный инструмент в формировании исторического сознания» [10].
Сегодня понятия истории и наследия усложняются с усложнением состава населения стран и регионов. Современные нации имеют в своем составе этнические и религиозные группы, а также регионально-отличительные сообщества, которые конструируют свои собственные версии исторической памяти. Не только аборигенные группы, но и иммигрантские сообщества хотят «видеть себя в истории». Канадцы одними из первых создали еще в 1970-е гг. серию трудов о вкладе в историю и культуру страны разных иммигрантских групп населения (итальянцев, украинцев, русских, норвежцев и др.). Эту практику подхватили и другие страны.
В настоящее время современные нации и их самосознание уже не являются заложниками исторической памяти, как это было полвека назад. Национальная история стала полем конкуренции разных версий гораздо в большей степени, чем это было в эпоху «молчаливого большинства» и безгласных меньшинств. К примеру, православные фундаменталисты в России активно выступают против «кощунственных произведений искусства», включая фильмы на исторические темы и нестандартные трактовки исторических событий, имеющих важный символический смысл [11]. Такое положение дел ведет к фрагментации холистских (целостных) версий истории государств, вызывая тем самым недовольство части носителей доминирующей культурной традиции, политической элиты, больше других обеспокоенных общегражданской солидарностью, а также представителей государственной сферы образования, ответственных за содержание учебных программ, учителей и учебники.
Теперь в учебниках по истории Канады на первом месте оказываются региональные проблемы, сюжеты так называемой социальной истории, исторический опыт этнических групп, а совсем не деяния, создававшие единую канадскую нацию. Особенно это касается Квебека, где история остальной Канады изображается как некий «чуждый сценический задник» (alien backdrop). По мнению Грэнатстейна [12], доктрина мультикультурности подрывает ощущение того, что иммигранты прибывали в страну, которая уже имела свою культуру. Эта доктрина порождает среди иммигрантов и среди франкофонов Квебека убеждение, что у Канады нет национальной культуры и, значит, нет канадской нации. C похожей критической оценкой национальных историографий и с критикой министерств образования, отказавшихся от общих программ и стандартов по истории, выступили до этого американка Г.Химмелфарб и англичанин Р. Эванс [13].
Есть еще один важный вопрос: как развести два фундаментальных понятия – «история как описание прошлого» и «историческое наследие как часть культурного капитала человека и нации»? Эти два понятия связаны друг с другом, но не идентичны. Как пишет Д. Лоуэнталь [15], «наследие вообще не является историей, хотя оно пользуется и одушевляется историческим исследованием. Наследие не экскурс в прошлое, а прославление прошлого, не попытка познать, что действительно было, а исповедание (практика) веры».
Реакцией на фрагментацию национальных версий истории стало возобновление дебатов о «культурном каноне» или о единых стандартах в обучении истории и даже о едином учебнике по истории в масштабах Европейского союза. В последние годы наблюдается своего рода бум на создание исторических канонов, включая региональные и местные каноны, которые тесно интегрированы в подобные национальные документы. В 2010 г. в Нидерландах, где в тот год проводился XI Всемирный конгресс историков, был принят закон «Культурный канон Голландии». В нем обозначены 50 ключевых тем национальной и всемирной истории, которые должны в обязательном порядке присутствовать в школьном историческом образовании. Причем это было не просто обозначение тем, а их содержательная трактовка, разделяемая и историками-профессионалами, и обществом. С 2007/08 учебного года в голландском историческом образовании введены две программы: дети с 8 до 14 лет должны изучать все 50 тем – от каменного века до введения денежной единицы евро, а учащиеся старших классов (15–18 лет) изучают европейскую историю с особым упором на историю Голландии. Цель новых программ состоит в том, чтобы усилить национальную идентичность и более полную интеграцию этнических и религиозных общин через систему общего знания голландской истории и культуры [15].
Региональная история и место регионального исторического знания в воспитании гражданской идентичности
Новая историческая культура пытается решить проблему совмещения местных и локальных историй с историей общенациональной, хотя это не всегда получается. «В той же Канаде три десятилетия спустя после рождения политики многокультур-ности (официально это произошло в 1972 г.), частью которой и была серия книг по истории этнических групп, известный историк (потомок иммигрантов во втором поколении) Дж. Грэнатстейн написал книгу под названием “Кто убил историю Канады?”. В ней автор заявил, что в Канаде историческое сознание исчезает, что наступает историческая амнезия, что у нации отнимается ее общее прошлое. Причиной тому является образовательная политика на уровне провинций, которой отдано на откуп преподавание истории» [10]. Многие претензии, которые высказываются канадскими специалистами по отношению к современным попыткам переосмысления истории, можно предъявить и к тому, как формируются региональные версии истории в России, в том числе в Коми. На наш взгляд, обществу предъявляются объяснительные модели прошлого, сформировавшиеся еще в советские годы, явно упрощающие и порой искажающие исторический процесс.
Однако мы не ставим задачу критической оценки современного регионального исторического нарратива, ибо это тема отдельного и очень серьезного исследования. Нам важно определить, в какой мере в местном сообществе актуален запрос на историческое знание как инструмент формирования регионального и общероссийского патриотизма и как осуществляют эту миссию учебные заведения Коми.
В этом смысле весьма показательно исследование, проведенное под методическим руководством Института этнологии и антропологии РАН в целом ряде российских регионов, включая Коми. В рамках этого исследования весной 2017 г. одновременно проводился опрос экспертов, школьников и их родителей. Согласно результатам опроса, большинство экспертов признают, что в учебных заведениях осуществляется важная гражданская миссия – формирование гражданского сознания у школьников. При этом чувство гордости за Россию, по мнению экспертов, формируют как естественные науки (балл 2.8 в Коми, 3.5 – в Удмуртии, 4.2 – в Марий Эл, 4.3 – в Мордовии), так и история, краеведение, естествознание (балл 3.9 – в Коми, 4.2 – в Удмуртии, 4.5 – в Марий Эл, 5.0 – в Мордовии). Примерно то же самое было сказано о роли названных предметов в формировании чувства патриотизма (и здесь очевидный «лидер» история – 3.9 балла в Коми, 4.2 – в Удмуртии, 4.6 – в Марий Эл и максимум – 5.0 баллов – в Мордовии). Но, пожалуй, наиболее показательны ответы на вопрос, в какой мере практика преподавания различных предметов школьного курса способствует формированию общероссийской идентичности. Большинство экспертов в Республике Коми заявили о том, что такую задачу в школе должны решать история, география, краеведение, а также языки и литература, т.е. школа, по их мнению, объективно ориентирована, прежде всего, на пропаганду общероссийских ценностей. С таким утверждением практически единодушны как опрошенные в ходе исследования школьники, так и их родители.
Здесь важно обратить внимание политиков и чиновников от образования на то, что представители учащейся молодежи, участвовавшие в опросе, продемонстрировали приоритет гражданско-государственной идентичности: подавляющее большинство предпочитают, чтобы в повседневной жизни окружающие воспринимали их в первую очередь как граждан России: до 87% в Марий Эл, более 89% в Коми, 81% в Удмуртии и 80% в Мордовии (примерно такие же данные были получены и при опросе в областях). Но самое главное, что эксперты указали на очень высокую роль названных предметов этнокультурной направленности в формировании представлений о культурном многообразии России (что не вполне согласуется с ключевыми положениями местных концепций этнокультурного образования). Так, 89% экспертов в Коми отметили, что эту функцию исполняют история, география, а 92 % – языки и литература. При этом эксперты критически оценили способность школьного образования в республике формировать у учащихся гражданское самосознание. И это не случайно. Доказательством тому служит содержание Концепции этнокультурного образования, принятой в Коми в 2015 г.
Там, в частности, сказано: «Основой этнокультурного образования является освоение этнической культуры коми народа (курсив наш) в диалоге с культурами русского и иных этносов, проживающих в Республике Коми…» [16]. Однако представляется, что основой этнокультурного образования является воспитание у учащихся адекватных представлений о многонациональной природе Российского государства (много- национальном российском народе – российской нации) и исторически сформировавшейся поликультурности республиканских и местных сообществ, воспитание культуры толерантности у учащихся. А главная цель системы этнокультурного образования должна состоять в формировании у учащихся представлений о национальном единстве россиян.
Этническая культура русского старожильческого населения и других этнических групп выпадает из системы этнокультурного образования Коми, ибо их культурные традиции, согласно заявленной цели, оказываются на периферии этнокультурного образования, в некоем малопонятном «диалоге» с доминантной культурой, как можно понять из невнятного содержания концепции. Отсутствие однозначной гражданской направленности в республиканской модели этнокультурного образования ведет к тому, что учащиеся не получают системных представлений о культурном многообразии республики, а равно и России, в чем неоднократно убеждался на собственном педагогическом опыте один из авторов.
Таким образом, очевидно, что в республике (как и в ряде других регионов РФ) до сих пор нет понимания этнокультурного образования как широкого образовательного процесса, связанного с пропагандой культурного многообразия этой территории, сложившегося исторически [17], воспитанием ГРАЖДАНИНА РОССИИ.
Способы обращения к истории
Сегодня преподавание истории – одна из самых важных и постоянно обсуждаемых образовательных проблем. Следует признать, что в обществе существует несколько способов обращения к истории. Один из них – научная историография, т.е. академическая версия прошлого, написанная профессиональными историками на основе документальных источников и дисциплинарных правил создания исторических описаний. Но есть и так называемая фольк-хистори (народная или устная история), есть история, воплощенная в местах памяти, музейных экспозициях, календаре и топонимике, в популярных ныне исторических реконструкциях. Есть история этнического и этноконфессионального самосознания – своего рода история формирования, конструирования, эволюции идентичности народа или регионально-этнических сообществ в рамках одного государства (например, в Усть-Цилемском районе Республики Коми за последние годы создано более десятка семейных музеев, в которых зафиксирована историческая память усть-цилемских староверов). Наконец, в современную эпоху мы обязательно должны говорить о медийном варианте исторической презентации, воплощенной в многочисленных исторических сериалах, блокбастерах, телевизионных шоу, подобных тому, что существует на Пятом канале РТ – телевизионном проекте «Суд времени». Скорее всего, корректнее было бы назвать все указанные варианты жанрами исторических презентаций, но в некоторых аспектах они больше, чем жанр. Так, например, создатель фильма на историческую тему может пренебречь фактической корректностью, исторической последовательностью и даже позволить себе очевидный вымысел, если того требует творческий замысел. Драматическая сторона телевизионных шоу есть антипод академической трактовки тех же самых тем и проблем. Но все названные варианты историй имеют отношение к формированию национального самосознания.
«В каком-то смысле школьная история есть одна из особых форм бытования и использования исторического знания . Ее отличительная черта – наличие очевидного политического воздействия и правительственного контроля, и прежде всего через такие механизмы, как учебные планы и программы. Казалось бы, такой нейтральный механизм, как план и сетка учебных часов, на самом деле может значить многое, а именно: сколько физического времени отводится в школьных классах на изучение истории, главным образом, национальной истории. Объем и глубина знаний о собственной стране напрямую зависят от того, насколько подробно или селективно преподается соответствующий предмет. Кроме того, школьная история является своего рода вариантом истории официальной. Во многих государствах содержание программ утверждается правительствами, и согласно закону учителя обязаны включать в уроки истории те темы, которые трактуют национальную историю с некоторыми различиями. В западных странах по этому поводу происходят общественные дискуссии, но все равно учебные версии – не рыночный продукт. Последним очевидно, являются телевизионные исторические сериалы, которые могут иметь большую популярность и воздействовать на восприятие прошлого не менее эффективно, нежели школьные версии национальной истории. И все же при всей критике исторических учебников для школы, они остаются основным инструментом обучения истории» [11].
За последние полвека содержание школьных историй изменилось. В центре осталась история собственной страны, однако это уже не только политическая, но и социальная история, включающая историю всех основных групп населения (этнических, расовых, религиозных) и социальных слоев (женщины, молодежь, старшее поколение, инвалиды и т.д.). Изменился метод обучения истории, сделавший предмет истории менее авторитарным и не таким монолитным, как катехизис. В ряде стран внедрили источниковый метод, когда ученик больше задумывается над историческими свидетельствами и рассматривает их с разных точек зрения. В 1970–1980-е гг. был популярен «ценностный подход», когда детей обучали не столько хронологической последовательности событий, сколько тому, как понимать те или иные исторические факты (неравенство, насилие, патриотизм, толерантность и т.п.). Однако хронологический подход остался доминирующим, по крайней мере, в европейской учебной традиции.
Степень изоляционизма национальных версий разная в различных странах. Во французских или итальянских школьных учебниках можно встре- тить ссылки на Великобританию при изучении истории индустриализации, парламентской демократии или конституционной монархии, но из английских учебников ученики мало что узнают об истории Италии и Франции. Сравнительный контекст – один из критериев открытости или изоляционизма школьной истории. В этом отношении российские учебники выглядят гораздо предпочтительнее: к примеру, о революциях, национально-освободительных и социальных движениях, а также о войнах российские школьники получают вполне достаточные сведения, причем не только на отечественных материалах.
На заключительном пленарном заседании XXI Всемирного конгресса историков в Амстердаме с лекцией выступила известная голландская писательница Неллеке Ноордервлиет – автор исторических романов и биографий. В лекции голландской просветительницы были положения, заслуживающие внимания. А начиналась она с нелестной характеристики музы истории Клио: «Каждый знает, что Клио – это шлюха. Она сидит перед окном в квартале красных фонарей. Игривая и сладострастная, она обслуживает как застенчивых ученых-академиков, так и нагловатых, напористых кинорежиссеров. Она одинаково зазывающе смотрит на мужчин и женщин и предоставляет им все, чего они пожелают: быстрое удовлетворение, длительную опустошающую ласку, жестокую непредсказуемую драму, необузданную страсть, и все это делает без особого напряжения. Такова ее игра, но, кто она на самом деле, не знает никто. Она держит свою подлинную сущность в тайне и улыбается, подобно Моне Лизе, тем, кто ее спрашивает об этом. Она выглядит вечно молодой, хотя стара, как и мир, и уж, конечно, старше своей профессии».
По мнению Ноордервлиет, в Голландии и в других европейских странах возобновленный интерес к истории связан, прежде всего, с проблемой идентичности, которая, в свою очередь, вызвана неопределенностью и быстрыми переменами современной жизни, массовой иммиграцией и утратой корней. Считается, что люди обращаются к музе истории в поиске комфорта, индивидуального и коллективного признания и что в целом такое обращение – процесс позитивный. «Чем больше толпа жаждущих у красного фонаря, возле окна Клио, тем лучше. Но я не думаю, что дело обстоит именно так, и именно это собираюсь обсуждать с вами сегодня», – сформулировала свою цель докладчица [11].
Действительно, история важна с точки зрения своей общественной цели – воспитания добропорядочного, ответственного гражданина. В этом случае перемены и кризисы, с которыми сталкиваются государственные сообщества, заставляют их искать ответы на вопросы, что было правильным, а что нет в том, каким образом мы создавали сегодняшнее общество. «Куда идет Россия?» или «Что мы построили?» – такие вопросы являлись основой любимых тем авторитетных гуманитарных собраний на протяжении многих лет в нашем Отечестве. Обсуждали их больше всего экономисты, политологи, социологи и меньше всего – историки.
Поиск ответа на сегодняшнюю ситуацию, считает Ноордервлиет, входит в задачу историка, ибо он несет ответственность не только за живущих, но и за тех, кто жил в прошлом. Он должен быть честным по отношению к ушедшим. Историк как бы говорит от имени умерших, и в этом состоит его особая ответственность.
К сожалению, в России «в настоящее время государственная политика памяти не имеет ни четко выраженных идеологических ориентиров, ни научной основы. Разумеется, власти стремятся интуитивно найти и поддержать пантеон бесконфликтных, так называемых “консенсусных” объектов исторической памяти (Александр Невский, Минин и Пожарский и др.), однако системного подхода к формированию задач исторической политики в современной России нет» [18].
Заключение
Таким образом, понятно, что важнейшие функции исторической памяти – это формирование гражданина и укрепление общей гражданской идентичности. В силу своей социальной и политической значимости эта сфера культурного наследия народа может играть как позитивную роль в обществе, способствуя его консолидации, так и негативную, когда с помощью манипуляций историческим наследием общество пытаются разделить на разные культурные страты, а трактовки прошлого подстраиваются под политическую конъюнктуру и интересы господствующих групп.
Список литературы Историческая память: формы сохранения, конструирования и презентации
- Дробижева Л.М. Гражданская российская идентичность: динамика и потенциал в консолидации полиэтнического сообщества//Этническое и религиозное многообразие России/Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Изд. 2 е, исправленное и дополненное. М., 2018. С.110
- Соколова М.В. Что такое историческая память? URL: http://pish.ru/blog/archives/142
- Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX начала XХ вв. Самара, 2011. С.8 9
- Денисенко К., Скоробогатый П. Золотая родословная// Эксперт. 2018. № 17 19 (1073). С.34 39
- Мещеряков А.Н. Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории//История и современность. 2008. №1. С.175 188
- Филиппова Е. Территории идентичности в современной Франции. М., 2010. С. 95
- Плеханов А.А. Инструментализация истории в политике нациестроительства Украины в постсоветский период: Автореф. дис. на соиск. уч.ст.канд.ист.наук. М., 2018. С.14 15
- Ачкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы безопасности. СПб., 2012. С.131
- Франсуа Этьен. "Места памяти" по немецки//Империя и нация в зеркале исторической памяти. М., 2011. С.33
- Тишков В.А. Новая историческая культура. М.: Издво Психол.и социальн. ин-та, 2011. URL:http://uchebana5.ru/cont/1018427- p6.html
- Шнирельман В.А. Православные фундаменталисты России в эпоху "культурных войн"// Этническое и религиозное многообразие России/Под ред. В.А.Тишкова, В.В.Степанова. М.: ИЭА РАН, 2018
- Granatstein. Jack L. Who Killed Canadian History? Toronto, 1999. См. также критический памфлет: MacMillan М. The Uses and Abuses of History. Toronto: Viking Canada, 2008
- Himmelfarb G. The New History and the Old. Сritical Essays and Reappraisals. Rev. ed. Harvard. Mass. 2004; Evans R. In Defence of History. W.W.Norton & Company. Toronto, 2000
- Lowenthal D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. London, 1997. Р. Х, 110 111
- Vos M. de. The Return of the Canon: Transforming Dutch History Teaching. History Workshop J. 2009. Vol. 67. № 1. Р. 111 124
- Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 2021 гг. URL: http://komishkola.ucoz.ru/ news/ koncepcija_razvitija_ehtnokulturnogo_obrazo vanija_v_respublike_komi_na_2016_2021_gg
- Жеребцов Л.Н. Историко культурные взаимоотношения коми с соседними народами. Х начало ХХ в. М.: Наука, 1982
- Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в России//Вестник Санкт Петербургского университета. 2014. Сер. 2. История. Вып. 2. С.118