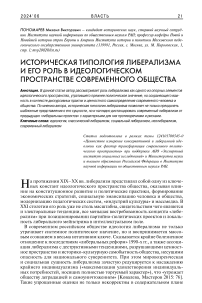Историческая типология либерализма и его роль в идеологическом пространстве современного общества
Бесплатный доступ
В данной статье автор рассматривает роль либерализма как одного из опорных элементов идеологического пространства, утратившего прежнее политическое значение, но сохраняющего важность в контексте дискурсивных практик и ценностного самоопределения современного человека и общества. По мнению автора, историческая типология либерализма позволяет не только преодолеть шаблонные представления о его сущности, но и наглядно дистанцировать современный либерализм от предыдущих «либеральных проектов» с характерными для них противоречиями и рисками.
Идеология, классический либерализм, социальный либерализм, неолиберализм, современный либерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170207652
IDR: 170207652 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-21-25
Текст научной статьи Историческая типология либерализма и его роль в идеологическом пространстве современного общества
Статья подготовлена в рамках темы 124101700545-0 «Ценностное измерение консервативной и либеральной идеологии как фактор трансформации современного политического пространства» при поддержке АНО «Экспертный институт социальных исследований» и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Институте научной информации по общественным наукам РАН.
Н а протяжении XIX–XX вв. либерализм представлял собой одну из ключевых констант идеологического пространства общества, оказывая влияние на конституционное развитие и политические практики, формирование экономических стратегий, социальную эмансипацию человека и общества, модернизацию педагогических систем, «индустрий культуры» и массмедиа. В XXI столетии его роль уже не столь масштабна, свидетельством чего являются и электоральные тенденции, все меньшая востребованность концепта «либерализм» при позиционировании партийно-политических проектов и локальность либерального мейнстрима в интеллектуальном поле.
В современном российском обществе идеология либерализма не только утрачивает системное политическое значение, но и воспринимается массовым сознанием в весьма негативном ключе. Сказывается крайне болезненное отношение к последствиям «либеральных реформ» 1990-х гг., а также ассоциация либерализма с деструктивными тенденциями, разрушающими ценностное пространство и историко-культурную самобытность общества, несущими опасность для национального суверенитета. При этом мировозренческая и социальная сущность либерализма зачастую редуцируется к насаждению крайнего индивидуализма («максимизация удовлетворения индивидуальных потребностей, носящих полностью торгуемый характер»), что «угрожает обществу деградацией и самоуничтожением» [Ковалева, Мастеров 2015: 76]. Такие упрощенные оценки не только некорректны в содержательном плане
(как минимум, в силу разнообразия либеральных доктрин), но и несут немалые общественно-политические риски.
Нарочитая демонизация либерализма способствует радикализации идеологического поля консерватизма, смещению его к идеям, нарративам и образам органического корпоративизма (столетие назад это стало одним из факторов формирования идеологии фашизма), а также провоцирует распространение популистских и даже экстремистских настроений в «левом лагере». С другой стороны, искусственное продвижение либерального дискурса с претензией на безусловный императив «общечеловеческих ценностей» и «передового опыта» тех или иных «демократических» стран носит абсолютно контрпродуктивный характер. Следует признать, что значимость либерализма в рамках современного идеологического поля определяется не его конфронтацией с иными идейными доктринами, а включенностью в пространство общественной полемики, социальной рефлексии, гражданского активизма, ценностного самоопределения. Но что представляет собой либерализм в этом качестве?
Даже самый поверхностный анализ научной и общественно-политической периодики, учебных изданий и блогосферы показывает, что либерализм, с одной стороны, очень часто воспринимается сквозь призму шаблонных представлений, не учитывающих историческую эволюцию и внутреннее разнообразие этой идеологической системы, а с другой – интерпретируется в крайне широких границах, выходящих далеко за пределы собственно либеральных идеологем. Отсюда вполне логичный на первый взгляд вывод, что «правильнее описывать [либерализм] не как единую доктрину или мировоззрение, а как совокупность родственных идеологий, своеобразное идеологическое семейство» [Шапиро 1994: 7]. Общим знаменателем такого идеологического конгломерата могут служить ценностные установки, связанные с идеалом свободы и признанием безусловной значимости прав и достоинства человеческой личности, отрицанием любых форм деспотизма и насилия. Однако в этом случае идеологическое своеобразие либерализма оказывается выхолощенным, а его связь с политическим практиками – совершенно неочевидной. Частью либерального «идеологического семейства» становятся разнородные и малосовместимые доктрины – от либертаризма и либерального консерватизма до либерального феминизма, пацифизма, коммунитаризма, постанархизма. В особой степени характерна подмена понятий, связанная с восприятием современного либерализма сквозь призму либертарных идей и принципов. Как справедливо замечает О.В. Мартышин, «лозунг безусловного приоритета прав личности характерен не для либерализма, а для либер-таризма, под которым следует понимать политику, рассчитанную на максимальное свертывание социально-экономической деятельности государства... Принцип либерализма – не приоритет интересов личности, а гарантия прав и свобод человека, если они не противоречат благу общества» [Мартышин 2013: 41].
Таким образом, продуктивная интеграция либерализма в современное идеологическое пространство затрудняется не только его стереотипным восприятием в качестве индивидуалистических псевдоценностей, но и ассоциацией с универсальными этическими установками, которые в той или иной мере отражены в самых разнообразных политических доктринах и течениях общественной мысли. В этой ситуации крайне показательной является историческая типология либерализма, которая, с одной стороны, наглядно появ-ляет смысловое ядро этой идеологии, а с другой – демонстрирует основные модели социальной и политико-правовой институционализации «либерального проекта».
Очевидно, что неизменное кредо либерализма сопряжено с ценностным императивом свободы и достоинства человеческой личности. Но в этом плане либерализм отнюдь не уникален. Гораздо важнее тот факт, что в качестве мировоззренческой системы либерализм связан с признанием безусловной значимости эмансипации человека и общества. В любую историческую эпоху эмансипация человека сопряжена с изменением его социального статуса и расширением возможностей для самореализации. Однако логика либерализма подразумевает, что в основе этого процесса лежит именно личностное развитие, рефлексивное осознание человеком собственного «Я» и практическая, т.е. рациональная, прагматичная и ответственная, готовность к формированию своего жизненного пространства («стремление выводить моральный долг из жизненно важных структур, найти истоки ответственности перед другими в глубине нас самих, за пределами исторических превратностей и случайностей социализации» [Рорти 1996: 47]). Соответственно, ценность свободы определяется не стремлением к автономии, а обретением возможностей для личностного самоопределения как социального «взросления» человека.
Историческую типологию либерализма можно рассматривать с двух точек зрения: с одной стороны, речь идет об основных этапах становления и развития этой идеологической системы, связанных с нею теоретических разработок и политических практик, а с другой – о моделировании той социальной организации общества, которая максимально способствует эмансипации человека. Второй ракурс более значим, поскольку именно он раскрывает логику преемственности и сосуществования «либеральных проектов». Основанием для такой типологической модели можно считать дихотомию «свободы от» и «свободы для», хрестоматийно описанную И. Берлином и Э. Фроммом.
Метафора «свобода от» характеризует классический либерализм, истоки которого следует искать в сформировавшейся еще в XVII в. теории естественного права, а пик политической активности – в событиях конца XVIII – первой четверти XIX в. В то же время концептуальная модель классического либерализма связана не только с конкретно-историческим контекстом, но и с самой ситуацией доминирующего воздействия на человека публичных институтов и институций, когда априорная социальная принадлежность предопределяет особенности жизненного пространства и личностного развития. Отсюда выдвижение идей ограниченного правления (включая принципы верховенства права, независимого правосудия, «сдержек и противовесов») и упование на «невидимую руку рынка», т.е. превращение конкуренции в своего рода фильтр естественных и эффективных форм «свободного» социального активизма. Элитарность же классического либерализма, его критическое отношение к «народной демократии» связаны с признанием неготовности и нежелания значительной части общества принять состязательный образ жизни. В итоге, классический либерализм формирует весьма хрупкую модель социальной организации общества, но становится заметным фактором развертывания модернизационных процессов.
«Неклассический» либерализм ориентирован на совершенно иное состояние общества, уже преодолевшего качественный рубеж модернизации и способного превратить эмансипацию человека в системное явление. При этом можно выделить две исторически преемственные, но существенно разные модели такого либерализма. Первой из них является социальный либера- лизм, становление которого происходило во второй половине XIX в., а пик политических практик пришелся на конец XIX – первую половину ХХ в. Социальный либерализм предполагает не отказ от приоритетной роли свободного самовыражения человека и состязательного образа жизни, но необходимость стимулирования этих явлений и процессов, в т.ч. со стороны государства. Визитной карточкой социального либерализма являются реформы, связанные с кейнсианским регулированием экономики, антитрестовским законодательством, созданием систем общественного вспомоществования, социального страхования, бесплатного начального образования, расширением избирательного права, кампаниями против табакокурения и алкоголизма. Важно учесть, что такие меры подразумевают не достижение социальной справедливости в противовес конкурентным отношениям, а создание условий для все более массового и эффективного включения людей в «пространство свободы».
Схожую логику имеет и неолиберализм, возникший во второй половине ХХ в.1 Однако эта идеологическая доктрина существенно меняет взгляд на методы и формы стимулирования эмансипации человека, а главное, предполагает не верховенство состязательного образа жизни, а необходимость эффективной организации «пространства свободы». Отсюда снижение роли собственно идеологического фактора и переход к технократическим стратегиям национального развития (например, программы «Новые рубежи» Дж. Кеннеди, «Великое общество» Л. Джонсона, «Сформированное общество» Л. Эрхарда, «Передовое либеральное общество» В. Жискар д`Эстена, «Новое общество» Ж. Шабан-Дельмаса). Примером принципиального отличия социального либерализма и неолиберализма является переход от кейнсианства, рассматривавшего государственное регулирование лишь как средство укрепления естественных форм рыночной конкуренции, к неокейнсианству, ориентированному на достижение устойчивого экономического роста под эгидой «государства всеобщего благосостояния» и с помощью системного макроэкономического регулирования.
Современный либерализм, который в историческом и доктринальном плане можно считать постнеклассическим, начал складываться с конца 1970-х гг. в условиях нарастающих противоречий неолиберальной модели. Неолиберализм превратил эмансипацию человека в систему управляемых, хотя и весьма доступных социальных лифтов (вплоть до таких искусственных форм, как практика «позитивной дискриминации» в США), а конкурентную экономику – в симбиоз государства и крупного корпоративного бизнеса. Временный триумф неокейнсианства дал толчок формированию общества потребления, в котором ценность свободы оказалась вытесненнной стремлением к благополучию, социальной защищенности и безопасности. В этой ситуации либерализм потерпел поражение как политическая идеология, способная сформировать массовую социальную базу для продвигаемых ценностных дискурсов. Не случайно современный этап развития либеральной мысли начинается с постановки Д. Роулсом, Р. Дворкином, У. Кимликой, И. Берлином, Р. Рорти вопросов о справедливости и равенстве, а не главенстве свободы и конкуренции (что и формирует «развилку» между либерализ- мом и либертаризмом XXI в.). В значительной степени современный либерализм возвращается к классической парадигме естественного права человека на самоопределение, но прежде всего – в ценностно-мотивационном, рефлексивном, социально-коммуникативном ключе. Отсюда установка на толерантное отношение к инаковости, постмодернистское осмысление проблем идентичности и социального взаимодействия, акцентированное внимание к дискурсивным и игровым формам гражданского активизма, признание значимости коммуникативной демократии. Попытки же нарочитой политизации этих установок, стремление закрепить их в формате государственной политики или «бесспорных» императивов «общечеловеческих ценностей» становятся риском, возрождающим противоречия неолиберальных проектов. Но и дистанцирование современного «интеллектуального» либерализма от пространства политического диалога является контрпродуктивной тенденцией.
Список литературы Историческая типология либерализма и его роль в идеологическом пространстве современного общества
- Ковалева С.В., Мастеров Д.В. 2015. Либеральная идеология как деструктивный фактор социального развития. - Евразийский союз ученых. № 12-4. С. 73-77. EDN: VOIZAB
- Мартышин О.В. 2013. Конституция и идеология. - Государство и право. № 12. С. 34-44. EDN: RRRBHF
- Рорти Р. 1996. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество. 280 с.
- Шапиро И. 1994. Введение в типологию либерализма. - Полис. Политические исследования. № 3. С. 7-12. EDN: EQVQQT