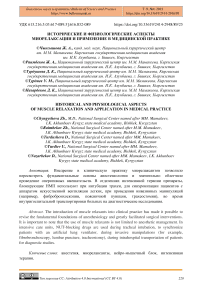Исторические и физиологические аспекты миорелаксации и применение в медицинской практике
Автор: Чынгышова Жамиля Амановна, Раимбеков Ж.А., Турдушева Д.К., Турдиев У.М., Назарбеков Д.К.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 4 т.9, 2023 года.
Бесплатный доступ
Внедрение в клиническую практику миорелаксантов позволило пересмотреть фундаментальные основы анестезиологии и значительно облегчило проведение оперативных вмешательств. В отделениях интенсивной терапии препараты, блокирующие НМП используют при интубации трахеи, для синхронизации пациентов с аппаратом искусственной вентиляции легких, при проведении инвазивных манипуляций (например, фибробронхоскопии, поясничной пункции, трахеостомии), во время внутригоспитальной транспортировки больных на диагностические исследования.
Анестезия, миорелаксанты, нейромышечный блок, интенсивная терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14127928
IDR: 14127928 | УДК: 615.216.5.03:617-089.5]:616.832-089 | DOI: 10.33619/2414-2948/89/25
Текст научной статьи Исторические и физиологические аспекты миорелаксации и применение в медицинской практике
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
История миорелаксантов. Предшественником современных миорелаксантов считают яд кураре, которым племена Южной Америки смазывали наконечники стрел. Индейцы первыми заметили, что отравленные кураре стрелы позволяют парализовать жертву даже при малейшем несмертельном ранении. В 1596 г. Walter Raleigh впервые описал отравленные стрелы в своей книге «Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana». В 1811– 1812 гг. Benjamin Brody провел ряд экспериментов, в которых первым продемонстрировал миорелаксирующий эффект кураре. В 1825 г. Charles Waterton повторил опыты Brody. С именем Charles Waterton связывают появление кураре в Европе [1, 2].
До начала эры миорелаксантов для достижения миоплегии в интраоперационном периоде приходилось углублять анестезию, что способствовало частому развитию сердечнососудистых и респираторных осложнений. Внедрение в клиническую практику миорелаксантов позволило пересмотреть фундаментальные основы анестезиологии и значительно облегчило проведение оперативных вмешательств. Важным этапом развития анестезиологии считают внедрение в клиническую практику в 1952 г. сукцинилхолина, который позволял обеспечивать выраженный нейромышечный блок, обладал быстрым началом действия и коротким эффектом, что значительно облегчило выполнение интубации трахеи. В начале 80-х годов были синтезированы миорелаксанты средней продолжительности действия (векуроний и атракурий). Дальнейшие усилия были направлены на создание новых миорелаксантов обладающих более коротким действием и меньшим числом побочных эффектов. В настоящее время блокаторы нейромышечной проводимости занимают прочное положение в анестезиологии [3–7].
Физиологические основы миорелаксантов. В основе любого движения человека лежит нейромышечная передача, которая осуществляется между моторным нейроном и мышечным волокном. Область, где нейрон вступает в контакт с мышечной клеткой, называют нейромышечным синапсом (НМС). В структуре НМС выделяют пресинаптическую мембрану моторного нейрона, синаптическую щель, заполненную гелем, и концевую пластинку мышечного волокна (постсинаптическую мембрану). Моторный нейрон состоит из тела клетки, множества дендритов и одного аксона. В дистальной части аксон не имеет миелиновой оболочки и разветвляется на множество конечных веточек, терминалей. Поверхность таких веточек, 6 непосредственно прилежащих к мышечной клетке, называют пресинаптической мембраной. Клеточные мембраны моторного нейрона и мышечной клетки разделены узким промежутком (20 нм) — синаптической щелью. Аксоплазма терминалей содержит вакуоли, наполненные ацетилхолином, который является медиатором нейромышечного проведения. Каждая вакуоль содержит порядка 6–10 тыс молекул ацетилхолина. На концевой пластинке мышечной клетки расположено до 5 миллионов никотинчувствительных холинорецепторов (Н-холинорецепторы). Импульс, приходящий по аксону, активирует кальциевые каналы в области терминалей, способствуя проникновению молекул кальция внутрь нейрона. Избыточная концентрация кальция приводит к выбросу ацетилхолина из вакуолей в синаптическую щель. Как правило, один нервный импульс вызывает выброс медиатора НМП из 50–60 вакуолей (суммарно до 600 тыс молекул ацетилхолина однократно) [8–12].
Попадая в синаптическую щель, молекулы ацетилхолина взаимодействуют с Н-холинорецепторами постсинаптической мембраны. Каждый холинорецептор состоит из пяти белковых субъединиц (две Альфа, одна Бета, одна Дельта и одна Эпсилон) [13]. Альфа-субъединицы способны связывать по одной молекуле ацетилхолина. После взаимодействия обеих А-субъединиц с ацетилхолином их конформация изменяется, что приводит к кратковременному (1 мс) открытию ионного канала. По каналам, проходящим через толщу рецепторов, по градиенту концентрации происходит разнонаправленное перемещение ионов Na+ и Ca2+ внутрь клетки и K+ из клетки. Быстрое перемещение катионов натрия вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны за счет уменьшения отрицательного заряда внутренней поверхности мембраны концевой пластинки мышечной клетки [14]. После активации необходимого количества Н-холинорецепторов суммарный потенциал концевой пластинки становится достаточно мощным, чтобы деполяризовать мембрану вокруг синапса. Натриевые каналы в этой части мембраны мышечного волокна открываются под воздействием разности потенциалов не взаимодействия рецепторов с молекулами ацетилхолина. Возникающий потенциал действия распространяется вдоль мембраны мышечной клетки и системы Т-трубочек, приводит к открытию натриевых каналов и выбросу ионов кальция из цистерн саркоплазматической сети. Кальций обеспечивает взаимодействие сократительных белков актина и миозина, что приводит к сокращению мышечного волокна. Количество высвобожденного ацетилхолина обычно значительно превосходит минимум, необходимый для развития потенциала действия. Некоторые заболевания нарушают процесс нейромышечной передачи. Так, при миастеническом синдроме Итона-7 Ламберта происходит высвобождение недостаточного количества ацетилхолина, а при миастении — снижено число холинорецепторов Ацетилхолин быстро гидролизуется субстратспецифическим ферментом ацетилхолинэстеразой, которая фиксирована в концевой пластинке в непосредственной близости от холинорецепторов, на уксусную кислоту и холин. Гидролиз ацетилхолина приводит к закрытию ионных каналов. Электролиты, за счет активного транспорта, распределяются соответственно исходному уровню, что обуславливает реполяризацию концевой пластины. После распространения потенциала действия ионные каналы в мембране мышечного волокна так же закрываются. Кальций поступает обратно в саркоплазматическую сеть, мышечное волокно расслабляется. По окончании нейромышечной передачи наступает кратковременный рефрактерный период, необходимый для восстановления потенциала покоя постсинаптической мембраны, подготовки рецепторов к взаимодействию с ацетилхолином [15–18].
Использование миорелаксантов является неотъемлемой частью анестезиологического пособия при хирургических вмешательствах и в палатах интенсивной терапии. Однако препараты, нарушающие нейромышечную передачу, обладают рядом побочных эффектов, одним из которых является остаточный нейромышечный блок (НМБ) [19].
Проблема остаточного НМБ появилась одновременно с началом применения миорелаксантов. Еще в 1954 г. H. K. Beecher и D. P. Todd обнаружили, что проведение операций с применением миорелаксантов сопровождалось большей летальностью по сравнению с оперативными вмешательствами, когда использования миорелаксантов удалось избежать. Авторы отметили, что в 63% случаев причиной летального исхода являлось развитие дыхательных нарушений после применения миорелаксантов [6].
В 1979 г. J. Viby-Mogensen и соавт. методом механомиографии оценили нейромышечную проводимость (НМП) у пациентов, которым во время операции применяли миорелаксанты длительного действия и ингибиторы ацетилхолинэстеразы [8]. Нарушение НМП при поступлении в палату пробуждения было диагностировано у 42% больных. По данным G. H. Beemer и P. Rozental (1986) частота нарушения НМП в раннем послеоперационном периоде составляет 21–36% [22].
Большие надежды в плане улучшения контроля за нейромышечной проводимостью связывали с внедрением в клиническую практику короткодействующих миорелаксантов [20].
Однако, несмотря на некоторое снижение частоты нарушения НМП при использовании современных миорелаксантов, общая частота развития остаточного НМБ остается достаточно высокой [23]. По данным G. Cammu и соавт. (2006) от 3,5 до 64% пациентов имеют признаки недостаточного восстановления НМП при поступлении из операционной [24].
Важно отметить, что применение миорелаксантов не ограничивается анестезиологическим пособием. В отделениях интенсивной терапии препараты, блокирующие НМП используют при интубации трахеи, для синхронизации пациентов с аппаратом искусственной вентиляции легких, при проведении инвазивных манипуляций (например, фибробронхоскопии, поясничной пункции, трахеостомии), во время внутригоспитальной транспортировки больных на диагностические исследования. По данным S. M. Lowson и соавт. (1999) частота развития остаточного НМБ после длительного применения миорелаксантов в отделении интенсивной терапии составляет 5–10% [21].
Таким образом, остаточный НМБ является фактором риска развития осложнений в послеоперационном периоде. Например, ранняя экстубация трахеи в условиях остаточного нейромышечного блока может сопровождаться нарушением координации глоточных мышц, дыхательной недостаточностью, что в свою очередь приводит к увеличению риска аспирации, развитию гипоксемии, гиперкапнии и гипоксии. По данным G. S. Murphy и соавт. (2008) наиболее часто встречающимися респираторными осложнениями, связанными с остаточным НМБ при использовании миорелаксантов в отделении интенсивной терапии, являются тяжелая гипоксемия (59%) и обструкция верхних дыхательных путей (34,4%) [1]. Сочетание различных осложнений авторы наблюдали в 34,4% случаев. H. Berg и соавт. (1997) отметили формирование легочных инфильтратов и ателектазов у 6,7% больных с остаточным НМБ [25].
Список литературы Исторические и физиологические аспекты миорелаксации и применение в медицинской практике
- Murphy G. S., Szokol J. W., Marymont J. H., Greenberg S. B., Avram M. J., Vender J. S. Residual neuromuscular blockade and critical respiratory events in the postanesthesia care unit // Anesthesia & Analgesia. 2008. V. 107. №1. P. 130-137. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e31816d1268
- Белкин А. А. Использование мониторинга мышечного блока при экспертизе терминальных состояний // Повреждения мозга: Материалы V международного симпозиума. 1999. С. 267-268.
- Солодов А. А., Петриков С. С., Ефременко С. В. Частота развития продленного нервно-мышечного блока при использовании миорелаксантов у нейрохирургических больных // Безопасность больного в анестезиологии и реаниматологии: Материалы IX Научно-практической конференции. М., 2011. С. 83.
- Society of Critical Care Medicine and American Society of Health-System Pharmacists. Clinical practice guidelines for sustained neuromuscular blockade in the adult critically ill patient // Am J Health Syst Pharm. 2002. V. 59: P. 179-195.
- Belkin A. A., Alasheev A. M., Gulin G. A. The Frequency of the Involving of Phrenic Nerve into the Poly-neuropathy of Critical Illness // Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 2004. V. 16. №4. P. 343.
- Алашеев А. М., Белкин А. А. Нейромышечные расстройства. Национальное руководство по интенсивной терапии. М., 2009. Т. 1. С. 357-360.
- Donati F. Neuromuscular blocking drugs for the new millennium: current practice, future trends - comparative pharmacology of neuromuscular blocking drugs // Anesthesia & Analgesia. 2000. V. 90. №5. P. S2-S6. https://doi.org/10.1097/00000539-200005001-00002
- Viby-Mogensen J. Neuromuscular monitoring // Anesthesia. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone. 2000. V. 1363.
- Donati F., Meistelman C., Plaud B. Vecuronium neuromuscular blockade at the diaphragm, the orbicularis oculi, and adductor pollicis muscles // Anesthesiology. 1990. V. 73. №5. P. 870-875. https://doi .org/10.1097/00000542-199011000-00013
- Plaud B., Debaene B., Donati F. The corrugator supercilii, not the orbicularis oculi, reflects rocuronium neuromuscular blockade at the laryngeal adductor muscles // The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2001. V. 95. №1. P. 96-101. https://doi .org/10.1097/00000542-200107000-00019
- Saitoh Y., Fujii Y., Takahashi K., Makita K., Tanaka H., Amaha K. Retracted: Recovery of post-tetanic count and train-of-four responses at the great toe and thumb // Anaesthesia. 1998. V. 53. №3. P. 244-248. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.1998.00336.x
- Iwasaki H., Namiki A., Omote K., Omote T., Takahashi T. Response differences of paretic and healthy extremities to pancuronium and neostigmine in hemiplegic patients // Anesthesia & Analgesia. 1985. V. 64. №9. P. 864-866.
- Морган Д. Э, Михаил М. С. Клиническая анестезиология. М., 2000.
- Suy K., Morias K., Cammu G., Hans P., van Duijnhoven W. G., Heeringa M., Demeyer I. Effective reversal of moderate rocuronium-or vecuronium-induced neuromuscular block with sugammadex, a selective relaxant binding agent // The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2007. V. 106. №2. P. 283-288. https://doi.org/10.1097/00000542-200702000-00016
- Duvaldestin P., Kuizenga K., Saldien V., Claudius C., Servin F., Klein J., Heeringa M. A randomized, dose-response study of sugammadex given for the reversal of deep rocuronium-or vecuronium-induced neuromuscular blockade under sevoflurane anesthesia // Anesthesia & Analgesia. 2010. V. 110. №1. P. 74-82. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181c3be3c
- Schaller S. J. et al. Sugammadex and neostigmine dose-finding study for reversal of shallow residual neuromuscular block // The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2010. V. 113. №5. P. 1054-1060. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181f4182a
- Jones R. K., Caldwell J. E., Brull S. J., Soto R. G. Reversal of profound rocuronium-induced blockade with sugammadex: a randomized comparison with neostigmine // The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2008. V. 109. №5. P. 816-824. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818a3fee
- Khuenl-Brady K. S., Wattwil M., Vanacker B. F., Lora-Tamayo J. I., Rietbergen H., Alvarez-Gomez J. A. Sugammadex provides faster reversal of vecuronium-induced neuromuscular blockade compared with neostigmine: a multicenter, randomized, controlled trial // Anesthesia & Analgesia. 2010. V. 110. №1. P. 64-73. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e3181ac53c3
- Illman H. L., Laurila P., Antila H., Meretoja O. A., Alahuhta S., Olkkola K. T. The duration of residual neuromuscular block after administration of neostigmine or sugammadex at two visible twitches during train-of-four monitoring // Anesthesia & Analgesia. 2011. V. 112. №1. P. 63-68. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181fdf889
- Solodov A., Petrikov S., Krylov V., Efremenko S., Titova Y., Golubev B., Komardina E. Residual neuromuscular blockade after rocuronium bromide administration in the neurosurgical patients. Incidence and treatment opportunities // Intensive Care Medicine. 2011. V. 37. P. S252-S252.
- Lowson S. M., Sawh S. Adjuncts to analgesia: sedation and neuromuscular blockade // Critical care clinics. 1999. V. 15. №1. P. 119-141. https://doi.org/10.1016/S0749-0704(05)70043-9
- Beemer G. H., Rozental P. Postoperative neuromuscular function // Anaesthesia and intensive care. 1986. V. 14. №1. P. 41-45.
- Крылов В. В., Кондратьев А. Н., Лубнин А. Ю., Белкин А. А., Щеголев А. В., Петриков С. С., Рабухин П. П. Рекомендации по диагностике и реверсии остаточного нейромышечного блока в нейрохирургии // Вестник интенсивной терапии. 2011. Т. 4. С. 5262.
- Cammu G., De Witte J., De Veylder J., Byttebier G., Vandeput D., Foubert L., Deloof T. Postoperative residual paralysis in outpatients versus inpatients // Anesthesia & Analgesia. 2006. V. 102. №2. P. 426-429. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000195543.61123.1f
- Berg H., VibyDMogensen J., Roed J., Mortensen C. R., Engbaek J., Skovgaard L. T., Krintel J. J. Residual neuromuscular block is a risk factor for postoperative pulmonary complications A prospective, randomised, and blinded study of postoperative pulmonary complications after atracurium, vecuronium and pancuronium // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 1997. V. 41. №9. P. 1095-1103. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1997.tb04851.x