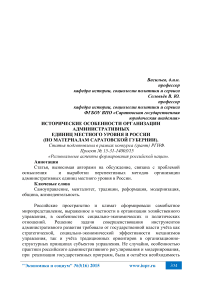Исторические особенности организации административных единиц местного уровня в России (по материалам Саратовской губернии)
Автор: Васильев А.А., Соловьв В.Ю.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-1 (16), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья, выносимая авторами на обсуждение, связана с проблемой осмысления и выработки перспективных методов организации административных единиц местного уровня в России.
Самоуправление, менталитет, традиции, реформация, модернизация, община, жизнедеятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/140113659
IDR: 140113659
Текст научной статьи Исторические особенности организации административных единиц местного уровня в России (по материалам Саратовской губернии)
Российские пространство и климат сформировали самобытное миропредставление, выраженное в частности в организации хозяйственного управления, в особенностях социально-экономических и политических отношений. Решение задачи совершенствования инструментов административного развития требовало от государственной власти учёта как стратегической, социально-экономической эффективности механизмов управления, так и учёта традиционных ориентиров в организационноструктурных принципах субъектов управления. Не случайно, особенностью практики российского административного регулирования и модернирования, при реализации государственных программ, была и остаётся необходимость учёта исторического контекста и исторического опыта. Поэтому развитие административных механизмов местного уровня, в российском культурноисторическом пространстве, всегда представляет комплекс составляющих жизнеобеспечение русского общества, таких как ментальные воспоминания о сословно-соборном устройстве общества, государственном регулировании процессов жизнедеятельности, природном коллективизме, взаимовыручке, общинном сознании и религиозно-мировоззренческих представлениях. Православное население Поволжья, так как оно, численно с XVI века преобладало в крае, оказывало определяющее влияние на аграрный облик региона, обеспечив ему преимущественно земледельческий характер и православную национально-хозяйственную этику [Кабытов П.С.1983: С. 154].
Авторы считают, что через призму исторического поиска можно лучше понять значимые ценности в бессознательных установках российского общества. С учётом данной специфики в исследовании осуществляется реконструкция прошлого. В научном плане в расчёт берётся экономическая, политическая и духовно-нравственная целесообразность сохранения и развития механизмов общественного устройства, а также роль традиционных ценностных установок жизнедеятельности и социальных отношений. Данное обстоятельство заставляет понимать избранный предмет исследования как сложную систему тесно взаимодействующих факторов, ибо формирование социальной структуры российского общества имело существенное своеобразие. Различия западной и российской цивилизации в сферах государственного управления и экономики проявились в разных моделях административно-территориального (муниципального) устройства; в принципах и методах функционирования и взаимодействия с государством, субъектами хозяйственной деятельности и аналогичными структурами. Поэтому для разработки перспективных методов муниципального развития необходимо понимание исторически сложившегося противопоставления традиционного и западного укладов в российском обществе.
Как известно, по своей природе, западная и российская цивилизация антагонисты. Но географическое расположение в одной части света обусловило их тесное взаимодействие, разделив весь европейский континент на две мир-системы Запада и Востока. Но успехи развития западной цивилизации объективно потребовали прежде всего от России ориентироваться на ее достижения. Неслучайно различные фазы преобразований и модернизаций характеризуются с западоцентричных позиций. Поэтому утвердилось, что модернизация - движение по западному пути, а отклонения от него характеризуются как контрреформы. Отсутствие иных примеров адекватного развития заставляет Россию брать на вооружение именно западный опыт для обеспечения конкурентоспособности и решения жизненно важных вопросов. Другим аргументом является глобализация на основе распространения капиталистической системы в пределах всего мирового пространства. Соответственно, субъектность в мировой экономике требует руководствоваться законами рынка. Невозможно исключить рыночные принципы в управлении хозяйством, являясь интегрированной составляющей мирохозяйственной системы. Поэтому российское государство осуществляет модернизацию мир-экономики. Однако подобные модернизации сопровождаются нарушением целостности историко-культурной конструкции, вызывая кризис социальной системы, ибо традиционные условия жизнедеятельности в России требовали иных правил общежития, иного мироощущения и представления. На протяжении веков российское общество жило понятиями коллективизма, взаимопомощи, нестяжательства, а не категориями экономической выгоды, индивидуальных благ и меркантилистского расчёта [Васильев А.А., Соловьёв В.Ю. 2013].
Необходимо отметить, что без должного критического анализа и без сопротивления, навязанным извне ценностям, общество быстро утрачивает культурно-исторические скрепы, обеспечивающие устойчивость цивилизации, имеющей истинные цели, подтвержденные многовековой историей. В результате, страна стала объектом для социальных и экономических экспериментов, которые вели по пути сырьевого придатка капитализма. При этом западная модель развития на фоне русских традиционных механизмов жизнедеятельности выглядит устойчивой и последовательной, хотя на протяжении всего исторического пути, Запад многое заимствует для своего развития, в том числе, использует достижения русской цивилизации [Соловьёв В.Ю. 2009].
Рассмотрение традиционны ценностных установок жизнедеятельности русского народа и всего православного мира России в качестве активно действующего субъекта исторического процесса, способного стимулировать позитивные тенденции социальноэкономического развития, а также, жестко противостоять тенденциям, идущим вразрез с православной системой ценностей и ориентиров, позволяет по-новому взглянуть на взаимоотношения власти и народа, менталитет которого был сформирован общинно-артельным духом. Особенно ясно сущностные характеристики административногосударственных институтов и социальных групп проявляются в экстремальных ситуациях, в переломные моменты истории. Такие времена в истории России были, например, в периоды реформации и перестройки, когда страна вступала в решающую стадию процесса модернизации, которая часто дестабилизировала все структуры традиционного общества, обнажала кризисные моменты традиционализма, но не уничтожала мировоззренческие принципы покоившиеся на общинных, артельных, самоуправленческих и коллективистских началах; не разрушила традиционный тип хозяйствования. Более того, народно-хозяйственный и административный этос выработал и сохранял устойчивый иммунитет к индивидуалистическому, буржуазно-капиталистическому духу, несмотря на активное участие в рыночных отношениях [Васильев А.А., Соловьёв В.Ю. 2013]. Исходя из выше изложенного, можно прийти к промежуточному выводу, что современному, или, как теперь модно выражаться, на западный манер, гражданскому обществу необходима некая форма постижения в мысли явлений объективной реальности. А для объективного, конкретного и всестороннего знания действительности, включающего в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания мира и практического преобразования необходимо многоуровневое, чётко структурированное, с серьёзно продуманной базой методических разработок и преемственности традиционное устройство жизнедеятельности, всегда отличавшее наше Отечество от других стран. Генезис российского общества носит иной характер, наполненный иным содержанием. Предпринимавшиеся модернизации России являлись реакцией (необходимостью обеспечить главным образом военно-политическую конкурентоспособность) на давление Запада. Но реформы не вытекали из логики внутреннего развития. Города основывались, прежде всего, как военно-административные центры. Защита обширных границ требовала привлечения больших человеческих ресурсов. Хозяйственное освоение российских пространств осуществлялось при малочисленности и низкой плотности населения. Объективно наилучшим для экономики был общинно-артельный (кооперативный), а не конкурентный характер взаимодействия между людьми или производителями. В совокупности эти факторы не позволяли перейти на приоритет горизонтального взаимодействия и не создали возможность заменить экстенсивную природу преобразований интенсивными. Динамика вызревания социально-экономических условий развития была гораздо ниже динамики военно-политических задач. Поэтому государство вынуждено вмешивалось в хозяйственные и организационные процессы, запуская мобилизационный механизм для достижения экстраординарных целей, что и обусловило, в частности, превалирование вертикальных связей над горизонтальными в деятельности территориально-административных субъектов, что в свою очередь, на ментальном уровне, утвердило надматериальное мировосприятие: мессианство в освоении новых территорий, стремление к справедливому, а не к высокоприбыльному ведению дел. В этой уникальной среде сложился особенный психоисторический феномен, характеризуемый как «русская душа» .
После упразднения концепта сословно-представительского земского правления, государству, в решении задач системных преобразований, ещё не удавалось гармонично сочетать опыт двух цивилизаций. Привнесенные модели управления и ведения хозяйственной деятельности не приживались на российской почве, уже на этапе внедрения претерпев значительную деформацию. Причины многих неудач состояли в нетворческом заимствовании готовых западных форм, основанных на горизонтальном типе взаимодействия, неприятии особенностей автохтонного хозяйственноадминистративного, общественного устройства, пренебрежении к культурно-ценностным ориентирам и ментальным установкам. Последствиями непродуманной модернизации стал глубокий культурноэкономический разрыв в развитии столичных городов и регионов. Возникшая асимметрия так и не была изжита за три столетия. В настоящее время имеет место экономический провинциализм, периферийность последних относительно первых. А в регионах аналогичный разрыв существует между областным центром и районными муниципалитетами.
Отмена крепостного права и столыпинская аграрная реформа были также вызваны несовпадением внутренней логики развития с внешними требованиями. Крепостническая социально-экономическая система тогда еще не исчерпала свои ресурсы, но она не обеспечивала конкурентоспособности в мировой экономике. Консервативная культура хозяйствования, низкие темпы развития индустрии и товарооборота потребовали осуществить модернизацию социальной системы. Но в результате перехода от рыночно-крепостнического к рыночнокапиталистическому хозяйству, основанному на частной собственности и экономическом либерализме, возникли глубокие социальные противоречия, вылившиеся в общественные потрясения [Рязанов В.Т., 1998.]. В данном случае стремление модернизировать систему, обеспечивающую динамичное развитие за счет горизонтального взаимодействия и саморегулирования посредством рыночного механизма, содержало в себе все то же противоречие. Инициатива имела вертикальную направленность, исходящую от государства. А на уровне хозяйствующих субъектов, институтов местного управления идея не вызрела. Некоторые аспекты этой сферы представляли собой пустые лакуны. Поэтому развитие всего того, что составляет горизонтальное взаимодействие, пошло по своеобразной траектории, порождая жесткие социально-экономические противоречия в обществе. Например, синдицирование в промышленности, феномен кулачества при снижении регулирующей роли общины. В зависимости от масштабов хозяйственной деятельности институализировалась некая монополия на местный, региональный, национальный рынок. Таким образом, блокируется генерирование новых государственных и рыночных структур, регулирующих потоки денег, труда, товаров и оптимизирующих каналы взаимодействия.
В советский период строительства антикапиталистической системы, следуя логике антисистемы, отрицается рынок, капитал, конкуренция, выстраивается жесткая вертикаль, сведя к минимуму горизонтальные функции. Государство полностью взяло на себя управление деятельностью муниципалитетов, однако не справилось с нагрузкой: ахиллесовой пятой стал распределительно-регулирующий механизм, громоздкий и неэффективный.
Слом советской системы в годы перестройки и ставка на тотальную либерализацию экономики в постперестроечный период поставили муниципальную систему на грань полного разрушения. К обществу пришло осознание, что «технический» экспорт социально-экономической модели бесперспективен. Необходимо создавать собственную модель, творчески используя различный опыт. Но обязательным условием созидания является преемственность. Поэтому огульное отрицание советского опыта сменилось пониманием необходимости его переосмысления.
Иррационализм - присущее российскому обществу качество, которому имманентен хозяйственный аскетизм, поведенческий минимализм на рынке. Да и условия хозяйствования часто заставляют руководствоваться инверсивной поговоркой: цель не оправдывает средства. А внешняя предпринимательская успешность иррелевантна внутреннему культурнопсихологическому восприятию. Ответ на вопрос, почему для России заимствование западного опыта не стало столь же успешным как российского для Запада, заключается в асимметрии и условиях взаимопроникновения двух культур. Западная цивилизация использует в частности российский опыт для собственного совершенствования, имея избыток ресурсов, стремясь оптимизировать систему. Условия Запада позволяют строить свою цивилизационную модель, активно распространяя ее правила на иные страны, отводя им подчиненную роль, и не испытывая цивилизационного давления в отношении себя. А мировоззренческий рационализм, обоснованный религией и идеологией, обеспечил устойчивость и последовательность этой деятельности.
Генезис российского общества носит иной характер, наполненный иным содержанием. Предпринимавшиеся модернизации России являлись реакцией (необходимостью обеспечить главным образом военнополитическую конкурентоспособность) на давление Запада. Но реформы не вытекали из логики внутреннего развития. Города основывались, прежде всего, как военно-административные центры. Защита обширных границ требовала привлечения больших человеческих ресурсов. Хозяйственное освоение российских пространств осуществлялось при малочисленности и низкой плотности населения. Объективно наилучшим для экономики был кооперативный (общинный), а не конкурентный характер взаимодействия между людьми или производителями. В совокупности эти факторы не позволяли перейти на приоритет горизонтального взаимодействия, заменить экстенсивную природу преобразований интенсивными. Динамика вызревания социально-экономических условий развития была гораздо ниже динамики военно-политических задач. Поэтому государство вынуждено вмешивалось в хозяйственные и организационные процессы, запуская мобилизационный механизм для достижения экстраординарных целей, что и обусловило, в частности, превалирование вертикальных связей над горизонтальными в деятельности территориально-административных субъектов (муниципалитетов). Можно утверждать, что именно традиционные обычаи и нормы поведения, традиционные формы жизнедеятельности веками совершенствуясь, отражали эволюцию общественного сознания, являясь транслятором духовных ценностей. Народная правотворческая деятельность традиционного мира регулировала не только повседневный уклад в деревне и городах, но и включала народонаселение в общественные связи. Изучая это наследие и принимая во внимание всю остроту и противоречивость дискуссий вокруг традиционных форм управления и хозяйствования в прошлом, необходимо руководствоваться объективной выборкой информации, исходящей из особенного подбора и анализа источников. Исследование состояния и перспектив развития административных механизмов местного управления и выявление глубоких внутренних противоречий в российском обществе, позволили авторам прийти к мнению, что необходимо соотносить теоретические изыскания о нарративе и исторической традиции, народной памяти с политизированными установками и жизненной действительностью России. Подобное широкое установочное определение необходимо для конструирования объективной исторической реальности. Достижение идеала исторического синтеза зависит не только от уровня развития производительных сил и направленности хозяйственно-производственных отношений, продуктивной деятельности в обществе, определенных климатических условий региона, но и от всей совокупности представлений о ценностной картине мира, свойственной народной культуре и национальному менталитету народа.
Список литературы Исторические особенности организации административных единиц местного уровня в России (по материалам Саратовской губернии)
- Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье периода империализма. Дис. докт. истор. наук. М., 1983. С. 152-157.
- Васильев А.А., Соловьёв В.Ю. Этноконфессиональная идентичность: исторический анализ роли этнокультурных факторов в жизнедеятельности российского общества (на примере Саратовской губернии)//Власть. М., 2013.№11. С.40-44. ISSN 2071-5358.
- Соловьёв В.Ю. 2008. Русская крестьянская община Поволжья в 1861-1900 годы. Саратов: СГСЭУ, 2008. 296 с. ISBN 978-5-87309-774-6.
- Васильев А.А., Соловьёв В.Ю.2013. Пути гармонизации государственно-конфессиональных отношений в России. Саратов: СГСЭУ, 2013. 140 с. ISBN 978-5-4345-0249-8.
- Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX -XX вв. -СПб., 1998. С. 38 -39.