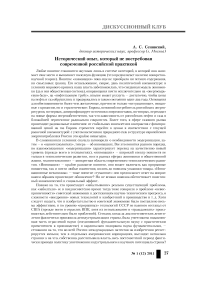Исторический опыт, который не востребован современной российской практикой
Автор: Сенявский Александр Спартакович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
В рамках заседания Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории в г. Звенигороде 4-6 февраля 2011 г. состоялся круглый стол на тему «Инновационные механизмы в технологическом и экономическом развитии России в XVIII-ХХ вв.»
Инновации, модернизация, экономическая история, сколково
Короткий адрес: https://sciup.org/14723567
IDR: 14723567
Текст краткого сообщения Исторический опыт, который не востребован современной российской практикой
Любое понятие становится научным лишь в системе категорий, в которой оно занимает свое место и выполняет полезную функцию (что предполагает наличие конкретнонаучной теории). Понятие «инновация» пока еще не приобрело ни четкого содержания, ни смысловых границ. Его использование, скорее, дань политической конъюнктуре: в условиях мирового кризиса наша власть забеспокоилась, что созданная модель экономики (да и вся общественная система), опирающаяся почти исключительно на «энергосырьевую базу», на «нефтегазовую трубу», вполне может рухнуть — достаточно, чтобы цены на нефть и газ обрушились и продержались в таком состоянии один-два года. Основания для обеспокоенности более чем достаточные, причем не только «ситуационные», связанные с кризисом, но и стратегические: Европа, основной потребитель российских энергоресурсов, во-первых, диверсифицирует источники энергопоставок, во-вторых, переходит на новые формы энергообеспечения, так что зависимость от российских нефти и газа в ближайшей перспективе радикально сократится. Более того, в сфере газового рынка происходят радикальные изменения: от стабильных многолетних контрактов с фиксированной ценой на газ Европа стремится перейти к ценам в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой: с учетом вытеснения природного газа в структуре европейского энергопотребления России это крайне невыгодно.
В сложившихся условиях сначала заговорили о необходимости модернизации, затем — о «нанотехнологиях», теперь — об инновациях. Все это понятия разного порядка, но взаимосвязанные: «модернизация» характеризует переход на качественно новый уровень (прежде всего в технологиях), «инновации» — широкий спектр новшеств не только в технологическом развитии, но и в разных сферах экономики и общественной жизни, «нанотехнологии» — конкретная область современного технологического развития. «Инновация» — крайне размытое понятие, оно может включать как прорывные новшества, так и почти любые изменения, вплоть до новизны упаковки товара. «Инновационные механизмы» — тоже понятие «туманное»: оно предполагает ответ на вопрос: каким образом происходит обновление? Но не всякая новизна обеспечивает позитивный экономический и социальный эффект.
Похоже на то, что происходит «забалтывание» реально существующей проблемы, как «заболтали» ее в позднесоветское время: тогда тоже говорили о проблеме «невосприимчивости» советской экономики к достижениям научно-технического прогресса, о сложности «внедрения» новых технологий и изобретений в производство и т. д. Хотя следует сказать, что и изобретательство в советской экономике было поставлено весьма эффективно, и по уровню «прорывных» технологий СССР не намного отставал от США (прежде всего в отраслях ВПК, хотя их использование в «гражданских» производствах действительно было проблемой). Сегодня, когда за два постсоветских десятилетия фактически произошла деиндустриализация страны, была уничтожена подавляющая часть отраслевой науки (соединявшей фундаментальную науку с практическим применением в производстве) и кардинально подорвана наука фундаментальная, — сетования на то, что во всей России международных патентов на изобретения регистрируется меньше, чем в отдельных американских корпорациях, выглядят несколько странно: а на что, собственно, рассчитывала власть, весь постсоветский период фактически проводя политику уничтожения индустриального и научного потенциала страны?
Самое печальное, что во многом потерян кадровый потенциал, причем не только ученых, изобретателей, но и инженеров и квалифицированных рабочих уникальных профессий. А с ними утрачены и научные, инженерные, изобретательские школы, не передан опыт следующим поколениям.
Тем не менее, если курс на модернизацию будет взят «всерьез и надолго», то без анализа исторического опыта, как мирового, так и российского, вряд ли можно обойтись. Целый ряд отечественных историков занимались этой проблемой уже много лет, и наработки в данной области есть и теоретические, и конкретно-исторические. Мы не знаем, будет ли этот опыт востребован на практике или принимающие решения сами знают «как лучше»: тогда получится «как всегда»... Другой вопрос: может ли быть исторический опыт применен в современных, весьма специфических условиях, и если да, то как?
Опыт России свидетельствует о том, что модернизация (и «инновационные механизмы» как неотъемлемая часть этого процесса) всегда, на всех исторических этапах осуществлялась при решающей (а в советское время — при доминирующей, всеобъемлющей) роли государства. По разным причинам внутри российского общества не было достаточного потенциала для обеспечения модернизационных прорывов. Выработка целей, аккумуляция ресурсов и направление их на решение «прорывных» задач всегда происходили «сверху», в лучшем случае ростки инициативы «внизу» поддерживались государством и приобретали иной масштаб, недостижимый для «гражданского общества». Это можно назвать использованием мобилизационных механизмов, которое в советское время переросло в мобилизационную модель развития. Второй особенностью российских модернизаций был «догоняющий» характер, а потому масштабное заимствование технологий. И это — нормально: почти все успешные модернизированные страны шли по такому пути. Китай сегодня успешно использует этот механизм. Но у России был и советский опыт сочетания догоняющего и опережающего развития: заимствование и освоение западных технологий сменялось быстрой подготовкой собственных производственных и творческих кадров, которые переходили к созданию собственных образцов техники и технологическим инновациям. Иначе вряд ли в условиях «холодной войны» СССР превратился бы во вторую научно-техническую сверхдержаву мира.
Способен ли рынок в российских условиях обеспечить «модернизационный прорыв»? Унаследованные советские «инновационные институты» (и прежде всего Российская академия наук) вряд ли могут решить эти задачи: во-первых, по своей природе они были рассчитаны на работу в иной по масштабам и возможностям стране, в иной системе, в принципиально иных условиях «мобилизационной модели»; во-вторых, их потенциал радикально подорван периодом многолетней постсоветской деградации общества, государства, экономики, науки, образования. «Сколково» как модель соединения интересов науки, технологического развития и бизнеса — весьма проблематичное явление: создание крупных проектов «с чистого листа» было по плечу советской мобилизационной модели, но постсоветская модель не предъявила ни одного успешного масштабного «инновационного» проекта. Сама коррупционная среда, пронизавшая все современное российское общество, заставляет сомневаться в успехе данного проекта еще на стадии его замысла и подозревать в создании очередного объекта для «распила» бюджета. Тем более, что, если задачи модернизации выдвигаются всерьез, за этим должно стоять понимание необходимости наращивания «человеческого потенциала». Но как социально-экономическая политика, закрепляющая тенденцию «демографической катастрофы», так и политика в сфере образования, ведущая к культурной деградации (см. заявление Фурсенко о том, что советская школа готовила людей творческих, а наша задача — готовить квалифицированных потребителей...), имеют ярко
28 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ выраженный антимодернизационный характер. Кроме того, успех модернизации возможен при выборе именно опережающей стратегии развития, а это значит выдвижение неких «идеальных» целей и мотивов. Таким путем идет современный Китай, опирающийся на рыночные механизмы, но имеющий и «надматериальные» цели и ценности. Вряд ли одно «материальное стимулирование» бизнеса со стороны государства сможет решить проблему «модернизационного рывка», без которого и создание «инновационной модели» развития не выйдет за рамки несбыточных деклараций. Нельзя рассчитывать на локальный успех «Сколково», «опуская» всю страну. «Сколково» есть прямое заимствование иноземных успешных проектов, которое не учитывает ни нашего исторического опыта, ни современных отечественных реалий, ни обусловленного текущей (перспективной) политикой будущего развития общества. Даже если предположить наличие некоторых частных достижений на базе этого проекта, они могут остаться всего лишь «анклавами» или даже «казусами» прогресса в тотально деградирующей социальной среде. Поэтому вряд ли исторический опыт российских модернизаций будет востребован на практике, и в частности, опыт создания и использования «инновационных механизмов».
Е. Т. Артемов, доктор исторических наук, профессор (г. Екатеринбург)
Инновационные механизмыв советской экономике второй половины XX в.
Сначала целесообразно высказать соображения общего свойства. В последнее десятилетие в теории и практике широко используются понятия «экономика знаний», «инновационная экономика», «высокотехнологичная цивилизация», «общество знаний» и т. п. Ими определяется тип экономики, в котором научная, научно-техническая деятельность играет решающую роль, является главным источником ее роста. Начало формирования экономики знаний в высокоразвитых странах относят к 50—60-м гг. XX в. Утверждается, что в это время в них произошло становление мощного, самостоятельного сектора по производству знаний, ядра современных национальных инновационных систем. Превращению последних в «мотор» экономического роста способствовала рыночная среда. С «совершенствованием» ее институтов связываются и перспективы «новой», глобальной, экономики.
Такой подход задает вполне определенный ракурс ретроспективным исследованиям, ограничивая их анализом процесса становления экономики знаний в рыночных условиях. Хотя очевидно, что в том же Советском Союзе существовало развитое производство знаний. Не случайно, по крайней мере в те же 1950—1960-е гг., он наряду с Соединенными Штатами считался лидером мирового научно-технического прогресса. А многие аналитики и политики на Западе тогда утверждали, что еще немного и Советский Союз оставит в экономическом и научно-техническом отношении далеко позади своего главного геополитического конкурента. Как известно, этого не случилось. Но тогда возникает вопрос: в чем причина? Почему на каком-то этапе действовавшие инновационные механизмы обеспечивали динамичное технологическое и экономическое развитие страны, а затем утратили свою эффективность? Для адекватных ответов требуются специальные исследования того, как формировалась и как работала национальная инновационная система, в чем заключались ее отличительные особенности, в каком направлении и под действием каких факторов она трансформировалась. Думается, что такой подход полезен и для понимания современных проблем. Ведь ясно, что «строя» национальную инно-