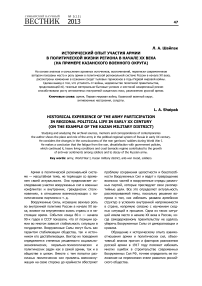Исторический опыт участия армии в политической жизни региона в начале XX века (на примере Казанского военного округа)
Автор: Шайпак Л.А.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа и осмысления архивных источников, воспоминаний, переписки современников автором показаны место и роль армии в политической региональной системе России в начале ХХ века, рассмотрены изменения в сознании солдат тыловых гарнизонов в годы Первой мировой войны. Сделан вывод о том, что усталость от войны, недовольство политикой правительства, продолжающей её, тяжелые материально-бытовые условия и жестокий казарменный режим способствовали росту антивоенных настроений солдатских масс, разложению русской армии.
Первая мировая война, казанский военный округ, антивоенные настроения, солдаты
Короткий адрес: https://sciup.org/14113816
IDR: 14113816
Текст научной статьи Исторический опыт участия армии в политической жизни региона в начале XX века (на примере Казанского военного округа)
Армия в политической региональной системе — масштабная тема, не теряющая со временем своей актуальности. Она предполагает исследование участия вооруженных сил в военных конфликтах и внутренних, гражданских столкновениях, в отношении военнослужащих с политическими партиями и т. д.
Вооруженные Силы, игравшие важную роль во внутренней политике России в начале XX века, влияют на внутреннюю жизнь страны и в настоящее время. События конца 80-х — начала 90-х годов в СССР показали, что от позиции армии во многом зависит стабильность ситуации в государстве. Вооруженные Силы могут быть как гарантом стабилизации общества, так и источником его дестабилизации. Вектор их поведения определяется степенью решаемости социальноэкономических, морально-психологических и политических задач как в самой армии, так и в обществе в целом. Вместе с тем попытки различных политических сил привлечь военнослужащих на свою сторону до крайности обостряют проблему сохранения целостности и боеспособности Вооруженных Сил и ведут к превращению воинских частей в вооруженные отряды различных партий, которые преследуют свои узкопартийные цели. Все это определяет актуальность рассматриваемой темы, поскольку решение вопроса о том, как избежать развала армейских структур в условиях внутренней напряженности в стране, напрямую связано с изучением сходных ситуаций в прошлом. Одна из таких ситуаций имела место в начале XX века в России, когда самодержавному правительству не удалось уберечь Вооруженные Силы от деморализации и кризиса.
Обращение к историческому опыту взаимоотношения армии и политических сил, объективный анализ причин и факторов разложения русской армии в 1917 году поможет избежать многих ошибок в строительстве современных Вооруженных Сил РФ, точнее определить ее положение на переломном этапе развития российского общества.
Численный состав войск на рубеже XIX— XX вв. определялся складывающейся внутренней и внешней политической обстановкой и экономическими возможностями страны. Перед военным ведомством в это время стояли две задачи. С одной стороны, нужно было обеспечить «тишину» в государстве, все чаще и чаще нарушавшуюся недовольством масс, с другой — обострение внешнеполитической обстановки требовало значительного контингента войск для обороны западных и дальневосточных границ. Эти обстоятельства определили высокий уровень численности войск начала XX века.
По данным Всеподданнейших отчётов Военного министерства, численный состав войск в 1905 году составлял 1 032 136 рядовых и 32 879 генералов и офицеров [1, с. 11].
По территории и численности войск одним из крупнейших тыловых военных округов был Казанский военный округ, образованный в 1884 году. Его гарнизоны дислоцировались в пределах 10 губерний — Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской, Астраханской, Саратовской, Самарской, Симбирской и Пензенской и 2 областей — Уральской и Тургайской [2, с. 14].
Воинские части по военно-политическим и квартирным соображениям размещались, как правило, в промышленных центрах, губернских и уездных городах. Важнейшей из причин этого послужили неоднократные обращения губернаторов в Министерство внутренних дел с ходатайствами «…о расквартировании в некоторых пунктах вверенных им губерний воинских частей в целях охранения общественного порядка и спокойствия и главным образом для подавления возникающих беспорядков в среде крестьян и рабочих» [3, л. 1].
Учитывая эти обращения губернаторов, в 1902 году была образована комиссия из представителей министерств военного и внутренних дел для обсуждения вопросов о некотором изменении существующей дислокации войск в зависимости от назревших потребностей по охранению общественного порядка и спокойствия.
В секретном сообщении Департамента полиции губернатору Симбирской губернии сообщалось: «Рассмотрев заявления губернаторов, а равно настоящее положение вопроса об обеспечении спокойствия там, где замечается особое брожение среди населения, означенная комиссия признала необходимым в ближайшем будущем принять меры к обеспечению соответствующей вооруженной силой некоторых районов империи» [3, л. 1].
В числе других пунктов Казанского военного округа по отношению именно к Симбирской губернии комиссия признала желательной нижеследующую дислокацию развертываемых бригад: 59-я резервная бригада. Управление бригады — Симбирск или Казань; 233-й резервный Сурский полк. Штаб и 1-й батальон — г. Симбирск; 234-й резервный Сызранский полк. Штаб и 1-й батальон — г. Симбирск; 2-й батальон — г. Алатырь [3, л. 2].
В Казани находился центр Казанского военного округа, и численность гарнизона в 1905 году была доведена до 5,5 тысяч человек (4-й батальон пехоты действительной службы — 1490—2080 чел. 7-й и 8-й батальоны временных запасных — 2960 чел. Команда артиллерийского склада — 300—400 чел. Команда служащих военного госпиталя и команда интендантского склада и управления — 600—700 чел. Две сотни 7-го Уральского казачьего полка — 200 чел.) [4, с. 6].
Большое количество войск находилось и в других губерниях Поволжья.
В годы Первой мировой войны численный состав Казанского военного округа достиг огромных размеров. На 1 января 1917 года в губерниях округа были расквартированы 13 запасных пехотных бригад, включавших в себя 81 пехотный запасный полк численностью от 5 до 13 500 человек каждый [2, с. 15]. Самыми большими гарнизонами были: Саратовский — 115—130 тыс., Самарский — 84—100 тыс., Пензенский — 70—90 тыс., Симбирский — 70—90 тыс. Остальные гарнизоны губернских центров и некоторых уездных городов насчитывали 25—30 тыс. солдат и офицеров [5, с. 13]. Причем в некоторых из них (Кузнецк, Саранск) численность войск превышала численность всего населения [6, с. 1].
В лице Казанского военного округа император и его правительство всегда желали видеть верную и надежную опору. В некоторых документах дофевральского периода этот округ именуется «оплотом порядка в империи». Да иначе и не могло быть. Приволжский и Приуральский край издавна слыли «бунтарскими». Именно отсюда потрясали основы самодержавия Разин и Пугачев. Именно здесь произошло знаменитое Безднинское восстание крестьян. Накануне февраля обстановка в Поволжье и в Приуралье также заставляла правительство опасаться народных возмущений.
Гражданские власти, если не формально, то фактически, еще и до начала Первой мировой войны находились под влиянием окружного командования, с началом которой их деятельность была всецело подчинена интересам войны и проходила под непосредственным руководством военных властей.
На Казанский военный округ помимо подавления революционных настроений была возложена роль одного из крупнейших поставщиков пушечного мяса. Для наглядности можно привести сведения из доклада командующего округом Сандецкого генеральному штабу от 17 октября 1915 года № 2175, в котором значится, что мобилизационный отдел генерального штаба предъявил к округу требование о непременной высылке на фронт в течение сентября, октября и ноября 1915 года по 800 маршевых рот (200 000 чел.) в месяц; за тот же период надлежало выслать в другие округа до 40 000 человек [2, с. 21].
Однако необходимо иметь в виду тот факт, что в годы Первой мировой войны происходят серьёзные изменения в сознании солдат русской армии. Анализ и осмысление архивных источников, воспоминаний, переписки современников событий начала ХХ века позволили автору сделать вывод о том, что усталость от войны, недовольство политикой правительства, продолжающей её, тяжелое экономическое положение и жестокий казарменный режим способствовали росту антивоенных настроений солдатских масс, разложению русской армии.
Эти обстоятельства определяли ту роль, которую играла армия в региональной политической системе в начале ХХ века. Многие известные политические и военные деятели отмечали, что в критический момент социально-политического кризиса общества, резкого обострения всех противоречий армия совершила весьма значительную эволюцию, сыграла большую роль в исторической судьбе страны. Так, известный историк, министр иностранных дел Временного правительства и лидер кадетской партии П. Н. Милюков в своей книге «Вторая русская революция», рассуждая над причинами кризиса, приходит к выводу о колоссальной роли военнослужащих в революции. Он также заключает, что основной движущей силой революции 1917 года были отнюдь не рабочие, а именно солдаты Петроградского и других гарнизонов, которые в своей местности (в Поволжье) сыграли роль не меньшую, чем столичный в Петрограде [7, с. 29]. И хотя согласиться со всеми выводами автора мы не можем, приведенный представляется нам справедливым.
Антивоенные настроения солдат в годы Первой мировой войны развивались по восходящей линии. В первые 3—4 месяца боевых дейст- вий под влиянием правительственной пропаганды, выступившей с идеологическим обоснованием и оправданием войны, распространились патриотические настроения, охватившие не только гражданское население, но и определенную часть армии, в основном её офицерский состав.
«…настроение населения Симбирской губернии за истекший месяц в общем было нормальное, но с объявлением войны настроение резко приподнялось и сделалось высоко патриотическим, — докладывал 9 августа 1914 года начальник Симбирского ГЖУ губернатору. — В большинстве городов были устраиваемы патриотические манифестации, а также служились молебны о даровании победы русскому оружию» [8].
«…по поводу войны повсюду проявляется патриотизм и пожелание скорейшей победы над врагом», — сообщал жандармский вахмистр в своём рапорте от 14 ноября 1914 года начальнику ГЖУ после объезда нескольких волостей Самарской губернии [9].
Аналогичные донесения поступали в административные органы других губерний Поволжья.
Нельзя недооценивать роли православной церкви в формировании общественного мнения и патриотического настроения не только у гражданского населения, но и у солдат. Известно, что церковь безусловно поддерживала политику правительства.
Военное командование широко использовало церковь для идеологической обработки солдат, подготовки их к участию в предстоящих боевых действиях. Священники устраивали молебны [10], читали проповеди, организовывали всевозможные шествия в период мобилизации. В воинских частях тоже были духовные «пастыри», в обязанности которых входило обеспечение религиозно-нравственного воспитания солдат.
Под влиянием правительственной пропаганды и духовенства большинство офицеров и многие солдаты поверили, что война носит оборонительный характер и противник скоро будет побежден. Но патриотические настроения не были превалирующими в сознании тех солдат, которые были оторваны от привычного уклада деревенской жизни. Русско-японская война с её тяжелыми последствиями, Первая русская революция 1905—1907 гг. и недовольство политикой самодержавного правительства давали о себе знать, будоражили солдатские умы и вызывали в их сердцах острое недовольство новой войной «За Веру, Царя и Отечество».
Свой протест и нежелание воевать многие ратники и ополченцы, подлежащие явке для отбытия повинности, выразили тем, что вообще не явились к освидетельствованию на призывные участки. Только по Ардатовскому уезду Симбирской губернии в списках неявившихся на призывные участки в первые дни мобилизации 1914 года значилось 222 человека [11]. Начальник Симбирского ГЖУ докладывал в Департамент полиции о том, что среди татарского населения губернии замечалось почти массовое уклонение молодых мусульман от выполнения воинской повинности [12]. А всего, по сведениям Управления Казанского военного округа, на сборные пункты в начале августа 1914 года не явилось без уважительных причин 22 700 человек. Кроме того, заявили себя больными 173 809 человек, или 28,4 % всех призываемых по 14 уездам округа [13, л. 95].
Эти данные позволяют утверждать, что многие рабочие и крестьяне или вовсе не явились на сборные пункты, или под предлогом болезни старались избавиться от воинской повинности: при общем числе (указано выше) заявивших о болезни 40 % из них подали заведомо ложные сведения, и только 45,9 % переосвидетельствованных были признаны негодными к военной службе [13, л. 96].
Нередко прибывшие на призывные участки выражали свой протест против войны в более активных формах: бунты, погромы и т. п. Наибольший размах выступления мобилизуемых на военную службу приняли в восточной части Европейской России и в Поволжье [14, с. 15].
Уже в первые дни начала мобилизации поволжские жандармские управления сообщали:
«20 июля 1914 г. в г. Сенгилей произошло буйство запасных нижних чинов, призванных по мобилизации, сопровождавшееся разграблением казенных винных лавок. На сборном пункте был открыт огонь, убито 5, ранено 4 человека. Арестованы зачинщики» [15].
«…20 июля 1914 г. в Бугульме громадною толпою запасных нижних чинов, призванных на службу по мобилизации, было произведено открытое нападение на чинов полиции» [16].
«…28 июля 1914 г. буйства 3-х тысяч запасных в Сызрани, по которым применено оружие. 7 человек убито» [17].
Подобного рода выступления запасных в июле 1914 года были также в Ставрополе, Кур-мышском и Бугульминском уездах, в других местах Самарской и Симбирской губерний [18].
В Казанской губернии движение запасных охватило Лаишевский, Чистопольский, Казанский и Цивильский уезды. В Пензенской губернии в районе станции Башмаково произошло крупное восстание крестьян. Как впоследствии выяснилось, главными организаторами и за- стрельщиками нападений на помещичьи усадьбы явились запасные [19].
Хотя эти выступления запасных в начальный период войны в большинстве своём и носили стихийный, неорганизованный характер, несомненно то, что их возникновение во многих случаях было связано с революционной пропагандой местных организаций радикальных политических партий и мобилизованных рабочих.
Но по мере того как в ходе войны все более вырисовывалось ее действительное лицо, возрастали человеческие жертвы и материальные лишения, обострялось политическое положение в тылу, в армии исподволь накапливалось и нарастало озлобление против самодержавного правительства, царя и его ближайшего окружения. Улетучивалась вера в быстрое окончание войны.
Тяжелые материально-бытовые условия и суровый режим в армии усиливали недовольство солдат войной и существующим строем. Уже через 2—3 месяца после начала войны в войсках стал ощущаться недостаток одежды и обуви. По данным Военного министерства, в 1915 году армия получила лишь 64,7 % необходимого количества сапог [20]. Было немало случаев, когда пополнение в воинские части других округов отправлялось в своей верхней одежде и лаптях (!) [2, с. 16—17].
Продовольственное снабжение армии все более ухудшалось по мере роста хозяйственной разрухи в стране. В период войны правительство несколько раз сокращало нормы продовольственного снабжения, урезало солдатский паек. До апреля 1916 года норма выдачи мяса солдатам сократилась в 3 раза. А поэтому не случайны были письма солдат такого содержания: «Несколько слов о тыле. Впрочем, не знаю, кто виноват, но пища у нас не приведи бог видеть» [21]; «…недостаток питания, а кроме того, хищничество нашего командира, который по крошкам грабит и отнимает у солдат и то, что отпущено казной» [22, л. 191]; «Воруют все, начиная с кашевара и кончая, наверное, заведующим интендантством» [23, с. 41].
Не лучше обстояло дело и с размещением солдат, заботой об их здоровье. Снова обратимся к письмам солдат: «…помещаемся мы в летних бараках, народу масса, режим ужасный. Насекомых больше, чем народу» [22, л. 52]; «…обедаем на тех же нарах, на которых сидим и лежим с грязными ногами. Как я до сих пор не заразился, уму непостижимо…» [24]. Подобные явления имели повсеместный характер.
Одним из факторов, имевших несомненное значение в создании неблагоприятного на- строения в войсках, было введенное с 1915 года официальное дисциплинарное наказание розгами. «Это явление, — свидетельствовал один из солдат, — осенью 1915 года стало обыденным: секут за то, что вздумается, за самые ничтожные пустяки, часто совершенно безвинных, а то и просто по прихоти начальства…» [25, с. 423].
«Независимо от этической стороны вопроса, — писал позже А. И. Деникин, — телесное наказание, применяемое властью начальника, являлось крайне нежелательным и опасным» [26, с. 96].
Солдаты часто писали о чувстве безысходности, об угнетающих мыслях о порабощении, вызываемых зверским обращением офицеров с солдатами: «Что-то жуткое чувствуется при переживании всего этого кромешного матерщин-ства, глумления над человеком, слишком ужасно видеть, как бьют, таскают за бороду людей, которым 40 и больше лет» [27, с. 73].
Рукоприкладство, массовые порки и издевательства офицеров, голод, тяжелые материально-бытовые условия глубоко возмущали солдат, служили одной из предпосылок формирования их революционного поведения в годы Первой мировой войны.
Поражения на фронтах войны, неоправданная гибель личного состава ещё больше усиливали ненависть солдатских масс к самодержавному строю. Много лет спустя бывший монархист В. В. Шульгин вспоминал об этом: «Ужасный счёт, по которому каждый выведенный из строя противник обходился нам за счёт гибели двух солдат, показывает, как щедро расходовалось русское пушечное мясо. Один этот счёт — приговор правительству и его военному министру… Приговор в настоящем и будущем. Приговор всем нам, всему правящему и не правящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстала от соседей» [28, с. 93].
Военные поражения 1914—1915 гг. вскрыли гнилость и разложение всей системы самодержавного строя, в том числе и армии. Вот как оценивал состояние армии близко стоявший к военному делу председатель Государственной думы М. В. Родзянко: «Справедливости требует указать, что симптомы разложения армии были заметны и чувствовались уже во второй год войны. Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой 25 % в среднем, и, к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следовавшие в поездах, останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона, за исключением начальника его, прапорщиков и других офицеров» [6, с. 90].
Недостаток вооружения, боеприпасов, появление на фронте безоружных людей, ожидавших винтовок от убитых, вызывало огромное возмущение у солдат. В войсках росло убеждение, что жертвы на войне приносятся бессмысленно, напрасно. Солдаты проклинали войну и все ее ужасы. «Господи, хоть бы скорее кончилась война… И черт их знает, мир не хотят заключить. А о том не думают, сколько страдает народу от этой бесполезной войны…», — сокрушался один из солдат 5-го гусарского Александрийского полка, расквартированного в г. Сызрани, в письме к своим родным [29]. Другой солдат писал в г. Самару: «Ужасно надоела эта война. В случае удачного ее исхода, конечно, не народ воспользуется ее результатами, а лишь Киты Китычи будущего. А народу придется еще долго платиться за “освободительную войну”...» [22, л. 95].
В связи с поражением на фронте солдаты стали не только осуждать политический строй в стране, но и начали высказывать мысли о необходимости его изменения. Обстановка на фронте вызывала рост пораженческих настроений в армии, одним из показателей которых явилась потеря уверенности в возможности победоносного окончания войны для России. Снижение морального духа войск из-за поражений на фронте вынуждены были признать и некоторые представители высшего военного командования. Так, генерал А. Н. Куропаткин в своем дневнике писал: «Нижние чины начали войну с подъемом. Теперь утомлены, и от постоянного отступления потеряли веру в победу» [30, с. 46]. А ведь «…вести войну, не популярную в массах, — как подчеркивал русский военный ученый, генерал Н. Н. Головин, исследовавший моральный дух войск, — есть предприятие ненадежное» [31].
Растущее недовольство в армии войной и самодержавным строем на почве поражений на фронте и начавшейся хозяйственной разрухи в тылу благоприятствовало восприятию солдатами агитации и пропаганды леворадикальных политических партий. Агитация и пропаганда леворадикалов затрагивала наиболее жгучие вопросы солдатской жизни. Недостаток боеприпасов и продовольствия, казнокрадство, телесные наказания солдат, грубость и произвол военного начальства, тяжелое положение солдатских жен и детей — все это становилось темой для бесед агитаторов. Причем необходимо отметить, что вся эта работа оказывала воздействие главным образом на тыловые части, гарни- зоны и запасные батальоны крупных центров. Разнородный, с преобладанием крестьянского, социальный, национальный и возрастной состав гарнизонов стал благодатной почвой для усвоения революционных, крайне радикальных идей социал-демократов, социалистов-революционеров, анархистов и национальных партий.
Реализуя свою программу демократизации армии, социалисты еще задолго до февраля 1917 года планомерно развенчивали авторитет командования и правительства в глазах солдат, критикуя их деятельность, «ведущую страну к гибели». Есть все основания считать, что именно под воздействием ужасов войны, с одной стороны, и нелегальной работы в армейской среде революционной социал-демократии — с другой, началось разложение армии. Давая характеристику этой работе, А. И. Деникин писал: «Революционная демократия… поражала беспощадно самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще непоколебимыми: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было и этого не стало» [26, с. 101].
Одним из факторов, ускорявших формирование антивоенного настроения у солдат, было массовое уклонение богатых от военной службы в качестве ратников ополчения и иных формах. Только с 1 июня 1916 по 1 января 1917 года по Казанской местной бригаде поступило 284 жалобы на 504 уклоняющихся от службы. Особенно много жалоб было по Казанскому уезду, где отсрочки получили 16 423 человека [32].
Революционизирующее влияние на солдатские массы оказывало также стачечное движение рабочих. В телеграмме на имя начальника Симбирского ГЖУ министр внутренних дел подчеркивал, что «…всякое волнение и нарушение порядка хотя бы и в отдельных местностях неизбежно станут известны в армии и могут бросить в нее чувство смущения и тревоги» [33].
И эти предостережения не были случайными. В многочисленных рапортах командиров батальонов и полков в 1915 и 1916 гг. часто отмечалось, что на солдат влияют рабочие предприятий, находившихся рядом с казармами [5, с. 22].
Революционные социал-демократы и беспартийные рабочие во время стачек вели агитацию среди запасных солдат, оставленных на заводах для выполнения военных заказов, и среди солдат местных гарнизонов за поддержку своих действий.
В 1916 году революционное брожение в запасных частях еще больше возрастает. О настроениях солдат в большом Симбирском гарнизоне к лету 1916 года говорится в совершенно секретном донесении начальнику Губернского жандармского управления. Оказывается, в 96, 97 и 242-м пехотных запасных полках среди солдат идут разговоры о том, что «…начальство защищает хищников-купцов и потому заставляет солдат стрелять в толпу, и что в толпу стрелять не следует, а наоборот, защищать народ…» [34]. Солдатам, да и некоторым офицерам надоело выполнять полицейские функции.
Поскольку случаи отказа солдат применять оружие против рабочих и крестьян в 1916 году множились, генерал Сандецкий направил губернаторам и начальникам гарнизонов телеграмму, в которой потребовал решительных действий вверенных им войск, которые вызываются не для того, чтобы быть зрителями происходящих беспорядков. Здесь же определялись и меры в отношении нижних чинов, проявивших пассивность при подавлении беспорядков или оказавшихся их участниками, — предание военнополевому суду с приведением приговора в исполнение в тот же день [35].
Однако никакими мерами и санкциями нельзя было остановить разложение армии, которое усиливалось тем больше, чем дольше затягивалась война. Стремясь подавить назревавшую революцию, правительство, местные власти пытались опереться на солдатские штыки, но безуспешно. Солдаты, испытавшие на себе все ужасы войны, познавшие до конца все прелести палочной дисциплины, порку, истязания и т. д., не были расположены к усмирению забастовок и восстаний. Наоборот, они сами бунтовали, протестуя против чуждой им войны, против своего бесправия и унижений. Росло неповиновение офицерам, участились отказы от исполнения приказаний, дезертирство и самовольные отлучки. Солдатская казарма постепенно становилась очагом революции.
Нельзя, конечно, утверждать, что отрицательное отношение солдат к войне и самодержавию было во всех случаях идейно осознанным, но тем не менее к началу 1917 года недовольство солдатских масс достигло наибольшей остроты, антивоенные настроения охватили всю армию. В условиях глубокого экономического, политического кризиса, кризиса самосознания, ломки привычных стереотипов поведения и традиционной системы управления гарнизоны Поволжья, как составная часть общества, становились все более революционизированы и неуправляемы, подвержены взаимоисключающим тенденциям и восприимчивы к радикальной агитации. Из лозунгов социалистов-радикалов солдаты взяли универсальную формулу — кру- шения «эксплуататорского» режима — сторонника войны. Даже со свержением монархии данная формула спонтанной военной оппозиции не потеряла актуальности. Солдаты активно разыгрывали её вплоть до Гражданской войны 1918 года, направляя уже по собственному усмотрению.
Основными уроками, которые можно и нужно извлечь из исторического опыта роли и характера действий армии в региональной политической системе в конце XIX — начале XX века, могут быть следующие. Прежде всего, армия как один из основных стабилизирующих факторов современного общества не должна испытывать чувства неудовлетворенности существующим положением: это касается и оснащения ее современными видами оружия и боевой техники, и возможности проведения полноценной боевой учебы, и материально-технического обеспечения, и социальной защищенности военнослужащих. Армия должна чувствовать собственную значимость при решении вопросов государственного значения, а это возможно при условии адекватной оценки этого института государством в лице всех его без исключения структур. Критика недостатков должна быть профессиональной и конструктивной.
Политическим партиям и движениям, учитывая невозможность изоляции армии от политической жизни общества и считая армию инструментарием Российского государства, необходимо исключить ее из объектов своего политического воздействия. Не допускать создания в Вооруженных Силах параллельных властных и общественных структур, ибо, как показывает опыт 1917 года, в различных комитетах число воинских чинов, в большинстве случаев оторванных от своего прямого дела, составляло около пяти корпусов и обходилось казне в 1 млн 250 тыс. рублей в месяц [36]. Обращение к историческому опыту взаимоотношения армии и политических сил, объективный анализ причин и факторов разложения русской армии в 1917 году поможет избежать многих ошибок в строительстве современных Вооруженных Сил РФ, точнее, определить ее положение на переломном этапе развития российского общества.
-
1. Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX века. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986.
-
2. Ежов Н. Военная Казань в 1917 году (краткий очерк). Изд-е второе. Казань, 1957.
-
3. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 7. Д. 182.
-
4. Знаменский Н. Военная организация при Казанском комитете РСДРП и революционное движение в войсках Казанского военного округа в 1905—1907 гг. Казань, 1926.
-
5. Ионенко И. М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть Советов (по материалам Поволжья и Урала). Казань, 1976.
-
6. Медведев Е. И. Установление и упрочение Советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958.
-
7. Милюков П. Н. Вторая русская революция // Российские либералы: кадеты и октябристы. М., 1997.
-
8. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1094. Л. 155.
-
9. ГАУО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1889. Л. 259.
-
10. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1128. Л. 401.
-
11. ГАУО. Ф. 78. Оп. 2. Д. 966. Л. 2—27.
-
12. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 87.
-
13. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1720. Оп. 3. Д. 233.
-
14. Беркович А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. // Исторические зап. 1947. № 23.
-
15. ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1405. Л. 16—17.
-
16. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 13, 25, 25 об.
-
17. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1254. Л. 85—89.
-
18. ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 17, 27, 50—53; ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1943. Л. 73—75.
-
19. РГВИА. Ф. 1720. Оп. 7. Д. 207. Л. 2.
-
20. РГВИА. Ф. 1. Д. 178. Л. 4.
-
21. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 11.
-
22. ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053.
-
23. Царская армия в период мировой войны и Февральской революции // Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны. Казань, 1932.
-
24. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 65, 65 об.
-
25. Минц И. И. История Великого Октября : в 3 т. М., 1967. Т. 1.
-
26. Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991.
-
27. Вахрушева Н. А. Солдатские письма и цензорские отчеты как исторический источник (1915— 1917 гг.) // Октябрь в Поволжье и Приуралье (источники и вопросы историографии). Казань, 1972.
-
28. Цит. по: Яковлев Н. 1 августа 1914 года. М., 1974.
-
29. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1388. Л. 5.
-
30. Капшуков С. Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны (1914 — март 1917 гг.). М. : Воениздат, 1957.
-
31. Цит по: Образцов Н. Сила и дух // Родина. 1993. № 8—9. С. 64—67.
-
32. РГВИА. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 21. Л. 56—57.
-
33. ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1943. Л. 10.
-
34. РГВИА. Ф. 7695. Д. 9. Л. 62.
-
35. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1313. Л. 3.
-
36. Подсчитано автором по: РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 72. Л. 93—98 об.
Список литературы Исторический опыт участия армии в политической жизни региона в начале XX века (на примере Казанского военного округа)
- Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX века. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986.
- Ежов Н. Военная Казань в 1917 году (краткий очерк). Изд-е второе. Казань, 1957.
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 7. Д. 182.
- Знаменский Н. Военная организация при Казанском комитете РСДРП и революционное движение в войсках Казанского военного округа в 1905-1907 гг. Казань, 1926.
- Ионенко И. М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть Советов (по материалам Поволжья и Урала). Казань, 1976.
- Медведев Е. И. Установление и упрочение Советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958.
- Милюков П. Н.Вторая русская революция//Российские либералы: кадеты и октябристы. М., 1997.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1094. Л. 155.
- ГАУО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1889. Л. 259.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1128. Л. 401.
- ГАУО. Ф. 78. Оп. 2. Д. 966. Л. 2-27.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 87.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1720. Оп. 3. Д. 233.
- Беркович А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г.//Исторические зап. 1947. № 23.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1405. Л. 16-17.
- Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 13, 25, 25 об.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1254. Л. 85-89.
- РГВИА. Ф. 1720. Оп. 7. Д. 207. Л. 2.
- РГВИА. Ф. 1. Д. 178. Л. 4.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 11.
- ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053.
- Царская армия в период мировой войны и Февральской революции//Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны. Казань, 1932.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 65, 65 об.
- Минц И. И. История Великого Октября: в 3 т. М., 1967. Т. 1.
- Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991.
- Вахрушева Н. А. Солдатские письма и цензорские отчеты как исторический источник (1915-1917 гг.)//Октябрь в Поволжье и Приуралье (источники и вопросы историографии). Казань, 1972.
- Яковлев Н. 1 августа 1914 года. М., 1974.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1388. Л. 5.
- Капшуков С. Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны (1914 -март 1917 гг.). М.: Воениздат, 1957.
- Образцов Н. Сила и дух//Родина. 1993. № 8-9. С. 64-67.
- РГВИА. Ф. 1734. Оп. 1. Д. 21. Л. 56-57.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1943. Л. 10.
- РГВИА. Ф. 7695. Д. 9. Л. 62.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1313. Л. 3.
- РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 72. Л. 93-98 об.
- ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 17, 27, 50-53
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1943. Л. 73-75