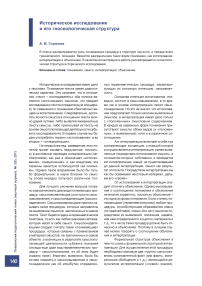Историческое исследование и его гносеологическая структура
Автор: Горюнов Алексей Владимирович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль понимающих процедур в структуре научного, и прежде всего гуманитарного, познания. Вводится разграничение таких форм понимания, как истолкование, интерпретация и объяснение. В качестве иллюстрации в работе рассматривается гносеологическая структура исторического исследования.
Понимание, смысл, интерпретация, объяснение
Короткий адрес: https://sciup.org/14219269
IDR: 14219269
Текст научной статьи Историческое исследование и его гносеологическая структура
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Историческое исследование имеет дело с текстами. Понимание текста имеет диалогический характер. Это означает, что в отношении «текст – исследователь» оба полюса являются «источниками» смыслов, что придает исследованию текста определенную специфику по сравнению с познанием «безгласных вещей» в естествознании. Следовательно, достигать ясности смысла в отношении текста можно двумя путями: либо выявляя имманентные тексту смыслы, либо приписывая их тексту на основе смыслополагающей деятельности субъекта (исследователя). В первом случае мы будем употреблять термин «истолкование», а во втором – «интерпретация».
На первый взгляд, разведение этих понятий может вызвать недоумение, поскольку в дословном переводе интерпретация (лат. interpretatio) как раз и обозначает «истолкование», «разъяснение», и, как следствие, эти термины зачастую используются как синонимы. Однако такое возражение было бы сугубо формальным: в науке близкие по смыслу слова нередко получают различное толкование.
Для лучшего уяснения вопроса полезно разграничивать два вида понимающих процедур: смысловыявляющие (или просто смыс-ловыявление) и смыслонаделяющие (смысло-наделение). Смысловыявляющими принято называть такие процедуры, которые направлены на выявление смыслов, заключенных в самом тексте. Текст берется здесь в герменевтической трактовке, то есть как любая знаковая система, которая несет в себе смысл. Смыслонаделяющими следует считать такие «понимающие» процедуры, которые связаны с привнесением в материал смыслов, не заключенных в самом объекте, а возникших в результате смыслополагающей деятельности субъекта познания (отсюда еще один вид герменевтических процедур – смыслополагание, но об этом будет сказано ниже). Впрочем, возможно, было бы точнее говорить о смысловыявлении и смыс-лонаделении как об атрибутах определен- ных герменевтических процедур, характеризующих их основную интенцию, направленность.
Основная интенция истолкования, очевидно, состоит в смысловыявлении, в то время как в основе интерпретации лежит смыс-лонаделение. Но это не значит, что истолкование предполагает только наличие выявленных смыслов, а интерпретация имеет дело только с «положенным» смысловым содержанием. В каждой из названных форм понимания присутствуют смыслы обоих видов (и «положенные», и выявленные), хотя и в различном соотношении.
Акт интерпретации включает в себя три составляющие: концепцию, с позиций которой и осуществляется интерпретация; ранее выявленные посредством истолкования смыслы, в отношении которых, собственно, и проводится акт интерпретации; новый, не существовавший до данной интерпретации, смысл как результат этого акта. Посредством интерпретации мы как бы осваиваем некоторый материал, делаем его «своим».
От истолкования и интерпретации следует отличать объяснение. Однако высказывания о соотношении понимания и объяснения не вполне корректны, поскольку объяснение – это одна из форм понимания. Если считать понимающими (герменевтическими) любые процедуры, способствующие образованию новых (по крайней мере, новых для нас ) смыслов посредством их выявления, полагания, наделения ими определенного «сырого» материала и т. д., то к числу таких процедур должно быть отнесено и объяснение. Поэтому в лучшем случае можно говорить о соотношении объяснения и интерпретации.
Формальная структура объяснения в чем-то схожа с формальной структурой интерпретации. Для осуществления этой процедуры необходимы минимум две «группы смыслов»: вновь установленный факт (или факты, эмпирические обобщения и т. д.), являющийся результатом интерпретации («новое» знание);
ранее установленные факты, а также теории, концепции, с позиций которых и будет осуществляться объяснение («старое» знание). Например, в модели объяснения через охватывающие законы, которая была распространена К. Гемпелем и на историческую науку [2], это может быть сопоставлено, соответственно, с экспланандумом («объясняемым») и экспла-нансом («объясняющим»). Объяснение состоит в установлении между вновь сформулированными и ранее установленными фактами некой связи – причинной, функциональной, структурной, телеологической и т. д. с точки зрения той или иной концепции (учения, теории).
В отличие от интерпретации в ходе объяснения исходные смысловые единицы («факты») остаются неизменными, сохраняют свою идентичность, а приращение смысла происходит исключительно за счет установления и удержания связи между ними и ранее полученными (фактическими и теоретическими) знаниями. Отсюда видно, что объяснению должно предшествовать понимание двух видов. Во-первых, необходимы смысловые единицы (факты), между которыми в ходе объяснения и будет установлена связь. Их «поставщиком» является новая интерпретация (для «новых» фактов) или ранее осуществленная интерпретация (для «устоявшихся» фактов). Во-вторых, объяснению должно предшествовать выдвижение «объяснительных» концепций (теорий, положений), когда содержащиеся в концепции смыслы полагаются как принадлежащие той предметной области, по отношению к которой и формулируется данная концепция. В конечном счете объяснительная концепция прямо или косвенно восходит к процедуре по-лагания смыслов.
В контексте сказанного перспективной выглядит концепция объяснения В. А. Кан-ке, предложившего следующее определение: «Объяснить нечто означает непротиворечиво встроить его в трансдукционнную структуру науки» [3, с. 60], то есть, говоря упрощенно, согласовать с уже имеющимися (фактуальными и теоретическими) знаниями. На это, правда, можно возразить, что в таком согласовании нуждаются и другие виды научного знания, скажем, теоретические положения. Поэтому необходимо внести одно уточнение: здесь мы подразумеваем объяснение именно фактов. Необходимость встраивания фактов в структуру уже имеющегося знания обусловлена логической независимостью их получения от объяснительной теории, поскольку теория, с позиций которой интерпретируются данные, и теория, посредством которой факт объясняется, – это различные теории или, по меньшей мере, различные части некоторой теоретической системы.
Таким образом, каждая выделенная здесь форма понимания обладает определенной самостоятельностью и «самоценностью». Это проявляется, среди прочего, в том, что результатом каждой из этих процедур является свой, определенный «тип знаний». Результатом истолкования являются данные , результатом интерпретации – факты , результатом объяснения – «объясненные» факты .
Проиллюстрируем сказанное на примере исторического исследования. Историческое исследование включает в себя начальный этап, завершающий этап и основную часть. Основная часть исторического исследования, в свою очередь, подразделяется на две фазы – источниковедческую и собственно историческую.
Логически исходным моментом любого исследования является предварительное понимание (предпонимание), возникающее в сознании историка в результате изучения научной литературы, релевантной выбранной теме исследования. Речь идет о смыслах и конструкциях, заимствованных исследователем в ходе внутринаучной, а часто и общекультурной коммуникации. Именно эти смыслы и конструкции образуют ту «смысловую рамку», в пределах которой будет протекать данное исследование. Такое понимание достигается на начальном этапе исследования в результате того, что принято называть индивидуальным усвоением «готового» знания [12, с. 74–75]. Только после проведения данной работы историк может перейти к изучению самих исторических источников.
На источниковедческой фазе (основной части) исследования историк истолковывает источники, то есть выявляет заключенные в них смыслы. Результатом такого исследования являются не исторические, но источниковедческие факты. И исторические, и источниковедческие факты, как очевидно, представлены фактофиксирующими высказываниями. Однако если фактофиксирующие высказывания, презентирующие исторические факты, «отражают» саму историческую действительность, то источниковедческие фактофиксирующие высказывания повествуют о высказываниях автора источника (или – шире – об информации, содержащейся в источнике) по поводу исторической действительности. Хотя источниковедческие факты и не являются знаниями о самой исторической действительности, но они служат исходными данными или, по терминологии Р. Дж. Коллингвуда, основаниями при формулировке историком исторических фактов как таковых [4, с. 261–262]. Иными словами, историк опирается на данные источников при формулировании исторических фактов, но эти данные являются не высказываниями автора источника, а высказываниями самого историка о высказываниях автора источника.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Среди историков все еще распространено убеждение, что факты содержатся в источниках, а задача исследователя – просто извлечь их оттуда. Здесь исторический факт рассматривается как «сообщение источника» или, по крайней мере, не любое, а только истинное сообщение. Данная позиция, однако, не согласуется с современной гносеологией. Принять сообщение источника за исторический факт можно только в том случае, если мы рассматриваем историческое познание как пассивную в своей основе процедуру переписывания источников, то есть фактически следуем опровергнутому современной философией позитивистскому идеалу научного (в данном случае – исторического) знания.
По этому поводу в исторической эпистемологии уже не раз выдвигались следующие возражения.
Во-первых, решение об истинности или ложности сообщения выносится историком. Следовательно, мы здесь, так или иначе, признавая активность историка, неявно переходим к пониманию исторического факта как факта науки, так как трактуем его (исторический факт) как сообщение источника, прошедшее определенную проверку.
Во-вторых, строго следуя источнику, историк попадает в зависимость от того, что в духе герменевтики принято называть само-описанием (исторической) действительности. В этом случае мы уже не можем выйти за пределы смыслового поля эпохи, к которой принадлежит источник, и оказываемся заложниками смыслов, вкладываемых в сообщение автором. Такая история будет уже не столько нашим знанием о прошлом, сколько взглядом людей прошлого на самих себя. Освобождение от такой зависимости возможно лишь через интерпретацию, в процессе которой интерпретатор привносит в материал свои смыслы, часто несопоставимые со смыслами самоописания и не выводимые из них.
Более того, исторические данные – это также не сообщения источника, а высказывания ученого об информации, содержащейся в источнике. При этом «содержащаяся в источнике информация» не тождественна «сообщениям источника», так как первая может содержать положения, не связанные с замыслом автора и даже прямо противоречащие ему. Следовательно, источниковедческий факт также не является непосредственным знанием, напрямую выводимым из источника.
Исторический факт в точном смысле формулируется на следующем этапе, который может быть обозначен как собственно историческое исследование. Такое исследование направлено уже на реконструкцию самой исторической действительности, а не на реконструк- цию ее самоописания, содержащегося в источниках. Его сутью является интерпретация результатов истолкования источников, т. е. интерпретация исторических данных. Следовательно, исторический факт является не результатом истолкования источников, а результатом интерпретации полученных при истолковании данных. В целом любой факт, начиная с факта обыденного знания и заканчивая научным фактом, представляет собой не непосредственное знание, но результат интерпретации [9, с. 28].
Вслед за интерпретацией идет процедура объяснения. При объяснении устанавливается связь данного исторического факта с другими (уже известными) историческими фактами и определенными теоретическими положениями. Как следствие, факт наделяется новым смысловым оттенком, которого он не имел раньше, что дает основание считать объясненные факты особой формой исторического знания наряду с данными и фактами как таковыми, то есть фактами до их объяснения.
Завершает историческое исследование этап, в рамках которого вновь полученное историческое знание сопоставляется с уже существующим знанием. Здесь главная задача историка состоит в относительно непротиворечивом «вписывании» вновь полученных знаний в общую систему исторического знания. На данном этапе определенной корректировке могут подвергаться как вновь полученные знания, так и ранее признанные положения, поскольку новое знание может не только расширять и уточнять эти положения, но и прямо противоречить им.
Таким образом, на фактуальном уровне исторической науки можно выделить по меньшей мере три «подуровня»: истолкование источников, интерпретацию данных и объяснение фактов. Результатом каждой из названных познавательных процедур является получение фактуальных исторических знаний определенного типа. Результатом истолкования источников являются исторические данные, результатом интерпретации – исторические факты, результатом объяснения – объясненные исторические факты.
В свое время в отечественной эпистемологии была популярна проблема соотношения субъективного и объективного в научном познании. С позиций герменевтики она предстает как проблема соотношения выявленных и «положенных» смыслов в структуре различных понимающих процедур. Как мы могли убедиться, одной из необходимых предпосылок и истолкования, и интерпретации, и объяснения является наличие концепций, которые служат «резервуаром» полагаемых субъектом смыслов.
Итак, смыслы полагаются учеными в процессе выдвижения теорий. Следовательно, наличие «положенных» смыслов на каждом из выделенных подуровней свидетельствует, что не существует форм исторического познания, свободных от теории. В связи с этим возникает проблема классификации используемых историками теорий.
Для решения этой проблемы удобнее всего использовать классификацию теорий, применяемую К. Поппером [10] и И. Лакатосом [6]. С их точки зрения, по отношению к данному исследованию можно выделить три группы теорий – «наблюдательные», интерпретативные и объяснительные.
«Наблюдательными» авторы называют теории, которые явно или неявно кладутся в основу проводимых исследователями наблюдений и экспериментов. Интерпретативными принято называть теории, с позиций которых интерпретируются полученные в «опыте» данные и, как следствие, «превращаются» в факты. Одни и те же данные могут служить основой для формулирования различных фактов в зависимости от того, какая теория здесь используется в качестве интерпретативной. Наконец, объяснительными именуются те теории, которые в рамках данного исследования используются для объяснения уже сформулированных, «готовых» фактов. Например, механика Ньютона способна объяснить, почему именно планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот.
Можно с высокой долей уверенности утверждать, что данная классификация теорий применима и к исторической науке.
На уровне истолкования источником выявленных смыслов являются тексты исторических документов, а источником положенных смыслов – теории, которые в естествознании назвали бы «наблюдательными», а применительно к исторической науке, учитывая ее специфику, можно называть также герменевтическими. Сюда относятся источниковедческие концепции, повествующие об особенностях той или иной группы источников, знание языка, на котором написаны подлежащие исследованию тексты, принципы и правила истолкования текстов и тому подобное. Сюда же могут быть отнесены и некоторые теории, имеющие естественно-научное происхождение, на основе которых в исторической науке осуществляется, в частности, датировка археологических находок.
На этапе интерпретации объективный момент представлен данными, которые презентируют здесь смысловыявляющие процедуры, хотя и в «снятом» виде, а субъективный момент – интерпретативной теорией, с позиций которой и будут интерпретироваться данные. Объективность фактов как результата переработки данных обусловливается двумя моментами «происхождения» последних. Во-первых, в рамках истолкования полагаемые с позиций герменевтических теорий смыслы в идеале не должны «примешиваться» к данным как конечному результату этой процедуры, а используются лишь как средство для выявления смыслов, заключенных в самом тексте. Во-вторых, герменевтические теории, являющиеся источником смыслополагания при истолковании, описывают не объект, подлежащий исследованию, и вообще не объект познания исторической науки (историческую реальность), а то, что в данном случае может быть названо средствами познания. В силу этого данные презентируют исторический источник как фрагмент самой исторической реальности, а не наши представления о ней. Субъективность фактов также обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, интерпретативные теории, с позиций которых интерпретируются данные, описывают саму историческую реальность, т. е. наши представления о ней. Во-вторых, смыслы, полагаемые интерпретативными теориями, «соучаствуют» в продуцировании фактов, «примешиваются» к конечному результату. Таким образом, процесс интерпретации развертывается между двумя полюсами – вновь полученными высказываниями историка о содержании источника и априорными, сформировавшимися до и независимо от данного исследования теоретическим видением исторической реальности или ее фрагмента.
Наконец, объяснение представляет собой «взаимодействие» так называемой объяснительной теории, презентирующей субъективный, смыслополагающий момент этой процедуры, и «готового» исторического факта, который на этом этапе обеспечивает объективную составляющую познавательных действий историка. «Удачное» объяснение факта с точки зрения данной теории имеет двоякое значение. Во-первых, это означает, что данный факт может быть успешно вписан в исходную концепцию и поставлен в определенное отношение к некоторым другим фактам. Во-вторых, это означает, что исходная концепция нашла дополнительное «эмпирическое» подтверждение. Любого рода рассогласование факта и объяснительной концепции, в свою очередь, подталкивает к одному из двух возможных действий. В этом случае историк должен либо отбросить вновь полученный факт (посредством ревизии интерпретативной теории или через повторное истолкование источников), либо отказаться от используемой объяснительной теории. Таково нормативное требование. Но на практике существуют и менее строгие варианты: либо согласовать факты и объяснительную теорию посредством гипотез ad hoc, либо вообще отложить разрешение этого противоречия до лучших времен.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
-
1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979.
-
2. Гемпель К. Г. Функция общих законов в истории // Гемпель К. Г. Логика Объяснения. М. : Дом интеллектуальной книги, 1998. С. 17–31.
-
3. Канке В. А. Философия менеджмента. М. : КНОРУС, 2010.
-
4. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М. : Наука, 1980.
-
5. Кун Т. Структура научных революций. М. : ООО «Изд-во АСТ», 2002. С. 9–268.
-
6. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ
// Кун Т. Структура научных революций. М. : ООО «Изд-во АСТ», 2002. С. 269–454.
-
7. Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М. : Наука, 1980.
-
8. Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 12–148.
-
9. Мартынович С. Ф. Факт науки и его детерминация. Саратов : СГУ, 1983.
-
10. Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М. : Прогресс, 1983.
-
11. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: московские лекции и интервью. М. : Академия, 1995.
-
12. Хвостова К. В., Финн В. К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. М. : Наука, 1995.
Historical Researchand its Epistemological Structure
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Список литературы Историческое исследование и его гносеологическая структура
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории//Гемпель К.Г. Логика Объяснения. М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. С. 17-31.
- Канке В.А. Философия менеджмента. М.: КНОРУС, 2010.
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. С. 9-268.
- Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ//Кун Т. Структура научных революций. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. С. 269-454.
- Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М.: Наука, 1980.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв//Лот-ман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 12-148.
- Мартынович С.Ф. Факт науки и его детерминация. Саратов: СГУ, 1983.
- Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М.: Прогресс, 1983.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: московские лекции и интервью. М.: Академия, 1995.
- Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. М.: Наука, 1995.