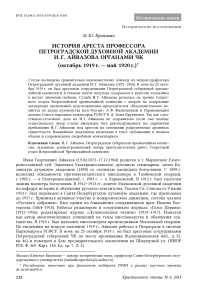История ареста профессора Петроградской духовной академии И. Г. Айвазова органами ЧК (октябрь 1919 г. - май 1920 г.)
Автор: Крапивин Михаил Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительно малоизвестному эпизоду из жизни профессора Петроградской духовной академии И. Г. Айвазова (1872-1964). В ночь на 23 октября 1919 г. он был арестован сотрудниками Петроградской губернской чрезвычайной комиссии и в течение почти полугода содержался в качестве заложника в местах лишения свободы. Судьба И. Г. Айвазова решалась на уровне Секретного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии с опорой на содержание экспертных заключений, подготовленных председателем «Исполнительного комитета по делам духовенства всея России» А. Ф. Филипповым и Управляющим делами Совета народных комиссаров РСФСР В. Д. Бонч-Бруевичем. Так как следственно-уголовное дело на И. Г. Айвазова не сохранилось (если оно вообще существовало), автор статьи вынужден был реконструировать все перипетии пребывания И. Г. Айвазова под арестом на основании разрозненных архивных свидетельств. Важнейшие документы включены в текст публикации в полном объеме и сопровождены подробным комментарием
И. г. айвазов, петроградская губернская чрезвычайная комис- сия, заложник, концентрационный лагерь принудительных работ, секретный отдел всероссийской чрезвычайной комиссии
Короткий адрес: https://sciup.org/140246607
IDR: 140246607 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10101
Текст научной статьи История ареста профессора Петроградской духовной академии И. Г. Айвазова органами ЧК (октябрь 1919 г. - май 1920 г.)
12 ноября 1919 г. супруга профессора Мария Евангелиевна Айвазова направила письмо на имя Управделами Совнаркома РСФСР В. Д. Бонч-Бруевича1. Настаивая на том, что деятельность ее мужа «уже много лет проявлялась в проповедничестве и лекциях-беседах научно-философского характера. И тени не было во всех его действиях чего[-]либо контр-революционного или призывающего к неподчинению Советской Власти или погромной агитации. <…> Будучи сам сыном кочегара и получив образование на последние гроши, проф. Айвазов не мог не относиться сочувственно к Советской Власти, как власти трудящихся, одобряя все ее мероприятия, как административные, так и церковные. Человек этот не причинил и не может в будущем причинить вреда коммунистическому государству». Прося о применении к арестованному акта амнистии от 7 ноября 1919 г., М. Е. Айвазова указывала на то, что «лица, значащиеся» с Айвазовым «под одним № 2382 о заложниках[,] уже выпущены» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 2).
В. Д. Бонч-Бруевич, получив обращение супруги Айвазова, переслал его (делопроизводственный № 3779, без даты) в четыре адреса: Г. Е. Зиновьеву2 и Н. В. Крыленко3; в ПетрогубЧК и «Бюро жалоб»4 с просьбой по результатам рассмотрения ходатайства известить просительницу и Управделами СНК (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 1).
Между тем следователь ПетрогубЧК И. Н. Клейц5 в ходе допроса, состоявшегося 31 октября и 1 ноября, предложил арестованному «дать письменный ответ» на ряд вопросов принципиального свойства, о его отношении к советской власти, к «иностранному вмешательству в дела Советской России», о его взглядах «на взаимные отношения между Церковью и Советской Властью»6.
Согласно позднейшей версии самого Айвазова, «вины никакой за мною не оказалось, а меня просто желали „выяснить“. <…> В итоге всего… следователь заявил о скором — „на днях“ — отпуске меня и разрешил мне свидание с женою. 7 ноября вышел декрет об амнистии и я еще сильнее укрепился в мысли об освобождении»7. «Однако, 14-го ноября меня отправили в Москву, как „заложника8“, что меня глубоко поразило, та[к к]ак ни с какой стороны я не мог быть причислен к „заложникам“»9. «Здесь я просидел в заключении при В. Ч.К. на Б[ольшой] Лубянке почти месяц и без всякого допроса был 12 декабря препровожден в Новопесковский10, близ Арбата, лагерь»11.
14 декабря Айвазов писал В. Д. Бонч-Бруевичу: «Сам я происхожу из бедной ме-щански-крестьянской семьи, учился на трудовые гроши отца и жил плодами своих трудов и оч[ень] часто в нужде и горе. Гнет капитализма я постиг личным опытом и был всегда идейным противником капитализма. Поэтому[-]то Советскую Власть я воспринял совестью в ее политико-экономической программе. А т. к. Советская Власть дала свободу религиозной совести, то послушание ей было для меня нормой моей жизни и деятельности. <…> Уже два месяца почти прошли, как я терплю муки тюремного заключения и не знаю[,] за что? Что сделал я против Советской России? Я не буржуй, а сын пролетариев; сам жил в нужде и горе, по 15 час[ов в] сутки работал; ничего я не имел и не имею. Я и не контрреволюционер, п[отому] что никогда не одобрял и не участвовал в засилье царизма-бюрократии над народом и все симпатии имею к Советской Власти, в т[о ж]е время всеми фибрами души ненавидя мировую акулу — Антанту[,] за ее кровавую политику в отношении к Советской России. <…> Если есть за мною вина: пусть скажут и по ее содержанию допросят. Если нет вины, пусть дадут свободу[,] и я отдам все свои силы на служение Советской России. Все же я был, есть и буду человеком чести и долга. Мне верили массы и верят. <…> Помогите мне и возьмите мои знания и опыт для Советской России, чем окажите и мне и правде незабвенную милость. Ведь, я уверен, что за мною нет вины, что в заложники я не гож12, как не буржуй и контрреволюционер. Да и странно пребывание среди титулованных бюрократов и капиталистов! <…> Изведите меня из темниц и найдете во мне и полезного и благодарного работника на ниве Советской России»13.
В концлагере Айвазов «пробыл до 27 января 1920 г., когда, за поручительством Председателя „Еро“ и „Транспорт[ного] Отдела“ Моск[овского] Совета Р[абочих и] К[расноармейских] Д[епутатов] А. М. Харсона14», его «откомандировали15 на службу16 к Ответственному Комиссару Московского жел[езно]дор[ожного] Узла» Ушакову для работы в должности «ответствен[ного] секретаря или Заведующего делами канцелярии» (Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, комната 22) (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.; ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4).
Отношением № 841 от 5 февраля 1920 г. «Управление лагерями принудительных работ»17 обязало Айвазова приходить на регистрацию один раз в месяц (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4): «я продолжаю числиться за лагерем, хотя мне и разрешено жить на частной квартире» (Москва, угол Тверской ул. и Страстного бульвара, д. 2, общежитие «Вега», комната 20 («это временный квартирный адрес»)) (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).
По словам Айвазова, он работал «ежедневно» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 3), «не исключая дней воскресных и праздничных, с 9 ч[асов] утра и до 8–9 ч[асов] веч[ера], а нередко и до часа ночи» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).
Уже через две недели, 13 февраля, Ушаков письменно обратился в ВЧК (делопроизводственный № 727) с просьбой «выдать профессору Ивану Георгиевичу АЙВАЗОВУ Удостоверение о его полном освобождении» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4).
Тем временем, независимо от ходатайства Ушакова, судьба И. Г. Айвазова решалась на уровне Секретного отдела (СО) ВЧК. Предварительно чекисты обратились за консультацией к А. Ф. Филиппову, председателю «Исполнительного комитета по делам духовенства всея России»18. 13 февраля 1920 г. Филиппов с пометой «срочно»
направил на имя М. И. Лациса19 свое «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ АЙВАЗОВА проф[ес-сора]. Анкета № 5996»:
«СПРАВКА.
АЙВАЗОВ действительно сын шкипера и действительно неутомимый труже[н]ик, пробивший своими руками и головой себе дорогу;
НО в свое время это был вожак в духовенстве (наряду с Варжанским20, Скворцо-вым21, Кальновым22 и др[угими] миссионерами) против сектантов, которых он буквально ненавидел, преследовал в процессах и на суде, будучи вызываем в качестве эксперта в делах исповедных.
Воинствующий миссионер старого времени и приемов, человек весьма умный, изворотливый, довольно бесцеремонный в приемах и умеющий приспособляться, был необходимым человеком при черносотенном митрополите Владимире23 в Петрограде; но также скоро сумел обойти и приспособиться к его противнику, либеральному Питириму24, другу Распутина.
АЙВАЗОВ — монархист боевого толка и действий; явный сторонник полного использования церкви в интересах монархической государственности. На этой, между прочим, почве, он разошелся с расстрелянным Восторговым25, стремившимся в последнее время распутиновщины оградить синодальную церковь от неприличного вмешательства Царской Власти и темных влияний, вроде Распутина.
Ярый противник сектантства, даже столь невинного и наивного[,] как „брат-цев“ Колосковых, в которых он видел хлыстовство, он[,] подобно Щегловитову26[,] не только создава[л] „иные сектантские процессы“, но пользовался широко полицейскими средствами и для освещения обстановки их: так[,] например, участвовал в обысках сектантов, отыскивая сорочки, в которых они „священно-действовали“, для получения „благодати“ Духа Святаго.
Ярый юдофоб, АЙВАЗОВ, как уверяют, был участником и в создании процесса Бейлиса, по крайней мере[,] в первой его стадии (не[ ]выяснено, бы[л л]и экспертом в деле).
Посему:
З а к л ю ч е н и е.
По делу АЙВАЗОВА подлежит за дополнительными и решающими сведениями обратиться к В. Дм. Бонч-Бруевичу, который, как изучавший сектантство и выступавший на процессах в роли эксперта и, конечно, в противоположном АЙВАЗОВУ направлении[,] — может дать обстоятельную характеристику, которая и должна быть положена в основание решения по вопросу о судьбе АЙВАЗОВА.
Дополнительные и наиболее четкие сведения мной будут представлены во избежание незрелого и скороспешного разрешения вопроса, ибо если АЙВАЗОВ находится на службе в Наркомпросе, то с очевидного ведома тов. ЛУНАЧАРСКАГО27, к которому также надлежит обратиться с запросом[,] поскольку занимаемая АЙВАЗОВЫМ должность является ответственной, а личность его необходимой для интересов просвещения в духе Советской Власти. Алексей ФИЛИППОВ. 13/II–20 г. Москва. С подлинным верно: Влад. Бонч-Бруевич» . (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 3–3 об. Заверенная машинописная копия. Заверительная подпись В. Д. Бонч-Бруевича — автограф).
В соответствии с рекомендацией Филиппова СО ВЧК незамедлительно (делопроизводственный № 3571 от 16 февраля 1920 г.) прибег к помощи В. Д. Бонч-Бруевича: «Препровождая при сем справку и заключение А. Филиппова, председателя Комитета по делам духовенства, как экспертизу по делу заключенного проф[ессора] АЙВАЗО-ВА[,] Секретный отдел В. Ч.К. просит Вас не отказать сообщить как по существу записки Филиппова, так и свой личный дополнительный отзыв о деятельности АЙВАЗОВА в видах оценки степени полезности или вреда для нынешнего строя. Айвазов находится[,] как заложник, в заключении в Новопесковском лагере; по справкам[,] работал в Наркомпросе в Петрограде, откуда и был доставлен в Москву на распоряжение В. Ч.К. Заведывающий СЕКРЕТНЫМ ОТДЕЛОМ (подпись). <…> С подлинным верно: Влад. Бонч-Бруевич » (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 4. Заверенная машинописная копия. Заверительная подпись В. Д. Бонч-Бруевича — автограф).
21 февраля 1920 г. вопрос об Айвазове был внесен в повестку дня заседания Президиума ВЧК (прот. № 31. П. 11. Дело проф[ессора] Айвазова). По итогам обсуждения было принято решение: «Поставить на вид Управлению лагерями, что оно без постановления ВЧК не имеет права освобождать. <…> 3) Айвазова не освобождать» (ЦА ФСБ России. Ф. 1ос. Оп. 4. Д. 1. Л. 51 об. Рукописный подлинник).
-
1 марта «Ответственный Комиссар Московского железнодорожного Узла» Ушаков, не подозревавший о постановлении Президиума ВЧК, вторично ходатайствовал (делопроизводственный № 1798) перед чекистами об освобождении Айвазова «от явки в Управление лагерями для регистрации» и настаивал на выдаче заключенному Удо стоверения о его «полном освобожд ении» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 5).
Получив на руки копии обоих писем Ушакова, 1 марта 1920 г. Айвазов переслал их Народному комиссару юстиции Д. И. Курскому28, сопроводив личным «прошением» рассмотреть «дело моего „заложничества“ на предмет полного освобождения меня и предоставления мне моральных и гражданских прав свободного гражданина Советской России, готового служить ей в меру своих сил и знаний, служить по совести, а не из-за страха» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6).
-
2 марта Курский, наложив резолюцию «Прошу войти в обсуждение вопроса об освобождении АЙВАЗОВА из Концентрационного Лагеря» (Общая Регистратура Н. К.Ю. № 2598), в свою очередь направил бумаги Айвазова (делопроизводственный № 161/1338) в НКВД РСФСР М. Ф. Владимирскому29 (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6–7).
Ситуация стала меняться (в худшую для Айвазова сторону) в конце марта 1920 г. Как явствует из его письма на имя все того же В. Д. Бонч-Бруевича (20 или 26 числа) 1920 г., «от управления Лагерем вышло распоряжение об отозвании меня со службы назад в лагерь, потому что заложников, як[об]ы нельзя откомандировывать на службу30» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).
Между тем в Секретный отдел ВЧК (параллельно — в VIII («ликвидационный») отдел Наркомюста РСФСР) поступило экспертное заключение по делу Айвазова от 22 марта 1920 г., подготовленное самим В. Д. Бонч-Бруевичем:
«В ответ на отношение, направленное на мое имя от 16-го февр. с. г. за № 3571, по поводу заключенного в Новопесковском лагере, как заложник, бывшего миссионера православной церкви профессора АЙВАЗОВА, в котором Вы просите меня сообщить Вам объективные сведения как по отношению к названному профессору, так в отношении заключения А. ФИЛИППОВА, считаю необходимым на этот Ваш запрос ответить нижеследующее. Лично Айвазов мне совершенно незнаком. Я встречал его неоднократно лишь на сектантских процессах[,] где он обыкновенно выступал в качестве эксперта со стороны обвинения, а меня на эти процессы нередко приглашала защита в качестве эксперта со стороны защиты, на основании особого распоряжения Академии Наук, признававшей меня специалистом в деле изучения и всестороннего знания истории, быта, нравов, обычаев и социально-политических и религиозных убеждений сектантов России. Считаю своим долгом совершенно определенно заявить, что названный Айвазов всегда выступал, может быть[,] согласно своей совести, ярым противником сектантов. Это ему[,] конечно[,] нельзя ставить в вину, так как он являлся представителем господствовавшей в то время православной церкви, но[,] к сожалению[,] я не могу не отметить, что при своих выступлениях он был злостным обвинителем сектантов, подтасовывал и искажал факты и историю сект. Больше того, он дошел до такой низости, что не смотря на то, что был миссионером православной церкви, он являлся сам на обыски сектантов, руководил ими и[,] напр[имер] в известном процессе Московских Трезвенников31[,] всеми мерами и всеми силами хотел извлечь из обыска для обвинения этих простых, очень у[ме]ренных сектантов, какие[-]то особенно безнравственные преступления, для чего вытаскивал из грязного белья мужские и женские сорочки, обшаривал постели, комоды и пр. Являясь одним из творцов этого знаменитого процесса, куда во Владимир я был вызван в качестве эксперта защиты, Айвазов так построил обвинение, что пришлось потратить 5432 дня, чтобы разоблачить всю ту гнусную ложь и клевету, которую сплели Айвазов, Вар-жанский, Скворцов и др. миссионеры на так[и]х скромных людей, происходивших в большинстве своем из ремесленников города Москвы. На других процессах, где участвовал Айвазов, повторялось то же самое, постоянная подтасовка фактов, грубая и хитрая ложь[,] постоянное стремление во что бы то ни стало унизить, скомпрометировать, законопатить в тюрьму, в далекую Сибирь сотни и тысячи сектантов.
В литературных своих произведениях Айвазов всегда выступал таким же лживым писателем, как он был лживым экспертом. Свою профессуру он получил не потому[,] что внес какой[-]нибудь свет знания в специальные вопросы, связанные с изучением сектантов, а лишь потому, что за свое по[с]тоянное преследование сектантов стяжал благоволение самых закоснелых и изуверно настроенных высших иерархов православной церкви той эпохи. Свою профессуру он получил вопреки и при протесте всех ученых [1 слово неразборчиво. — М. К. ] Духовной Академии, которые прямо[-] таки негодовали на то, что приказом Святейшего Синода этот безталанный, но очень усидчивый человек мог проникнуть на профессорскую кафедру, чтобы оттуда вести свою погромную противу сектантскую пропаганду, какую он вел и на процессах усмотрению (и, естественно, без благословения духовных лиц), на частных квартирах, превращенных в квазихрамы. Последовали репрессии. Чуриков сначала попадает в Самарскую больницу для душевнобольных (1898), затем его заключают в тюрьму Суздальского Спасо-Ефимиев-ского монастыря (1900). Недолгую передышку трезвенническое движение получает лишь в годы первой русской революции. Именно в ту пору сформировалась его разветвленная оргструктура, центром которой становятся созданное Чуриковым в столице в 1906–1907 гг. общество «Трезвая жизнь» и сельскохозяйственная колония, основанная Чуриковым в 1908 г. в пос. Вырица близ Санкт-Петербурга на землях, приобретенных на его собственные деньги и многочисленные частные пожертвования. Примерно с 1906 г. в Москве начали функционировать группы последователей Чурикова во главе с Иваном Николаевичем Колосковым (1874–1932) и Дм. Григорьевым. Если у Чурикова главные элементы православного культа сохранялись (за исключением причащения вином); то у колосковцев, называвших себя «свободными христианами», никаких обязательных богослужебных правил не существовало: «мы отрицаем всякие догматы и авторитеты как насилие над нашим разумом <…>. Поэтому у нас нет никаких духовных отцов и наставников <…>. Мы отрицаем всякие обряды, как насилие над нашими чувствами, которые они искусственно вызывают». Что касается содержания проповедей лидеров трезвеннического движения, то оно представляло собой смесь библейских постулатов (в их собственном толковании) и выдержек из толстовской доктрины «непротивления» и «всеобщей любви». Целью своей деятельности трезвенники объявляли «создание Царства Божия на земле», здесь и сейчас. Этическим категориям приписывалась способность быть решающим фактором в преобразовании общественного строя. После непродолжительной оттепели в годы революции (приведшей в трезвеннические общины многие тысячи людей) преследования «братцев» (как они сами себя называли) возобновились с новой силой. В 1908 г. Колосков в административном порядке высылается из Москвы. В 1910 г. И. Колосков и Д. Григорьев отлучаются от Церкви. В 1911–1913 гг. по сфабрикованному обвинению в свальном грехе они в течение 1,5 лет находились под следствием. Впрочем, под давлением общественного мнения и в силу явной надуманности попыток представить трезвенников последователями хлыстовского вероучения Владимирский окружной суд и Московская судебная палата (1913–1914) распорядились московских «братцев» из-под стражи освободить. Вместе с тем постановлением Миссионерского отдела при Святейшем Синоде от 12 июня 1912 г. Чурикову было запрещено проведение его духовно-нравственных бесед. В 1914 г. за сектантские заблуждения, под которыми подразумевалось изложение Св. Писания без всякого руководства свв. отцов и учителей Церкви; отрицание благословенности церковного брака; попытки сравнивать себя с Иисусом Христом, объявлять себя носителем благодати Божией и врачевать путем наложения рук, Петербургским епархиальным управлением было принято решение не допускать Чурикова и его последователей до Св. Причастия.
-
32 Первая цифра читается неуверенно, возможно: 6.
сектантов[,] и с церковных кафедр, и в полемике с сектантами[,] и в литературе. Меня крайне изумляет, что такой мракобес мог проникнуть в Наркомпрос и там чем[-]то заниматься, но[,] конечно[,] не просвещением.
В качестве заложника Айвазов[,] конечно[,] не стоит и лома[н]ого гроша. Я не сомневаюсь, что никакой белогвардеец в мире не пошевелит даже пальцем для изменения участи Айвазова, так как этот ретивый миссионер пользовался одинаковым презрением как в самых левых кругах, так и в кругах консервативных33[,] и только самая небольшая группа оголтелых мракобесов из Святейшего Синода относилась покровительственно к этому проходимцу. Так что держать Айвазова в качестве заложника[,] по[-]моему[,] не имеет никакого смысла. Ко всем отрицательным качествам Айвазова необходимо добавить еще одно: он крайнейший трус и как все трусы всегда подделывается ко всем и[,] конечно[,] я не сомневаюсь ни одной минуты, что он сейчас находится в крайней-шем страхе и в невероятном трепете. Если за ним не числится какого[-]нибудь определенного проступка, может быть[,] целесообразнее было бы[,] чем кормить его казенным хлебом, отпустить его на все 4 стороны, взявши подписку, что если он хоть как[-]нибудь и чем[-]нибудь проявит себя в качестве активного политического деятеля, то будет приговорен к высшей мере наказания нашего времени. Также следует его лишить права занимать какой[-]нибудь ответственный пост на Советской службе.
Пользуюсь случаем обратить Ваше внимание, что мне известно, что и другие миссионеры православной церкви, наиболее озлобленные против свободомыслящего населения, прежде группировавшегося в сектантских общинах, в настоящее время проникают и проникли на советскую службу и под этим покровом продолжают свое гадкое дело преследования сектантов. Как мне известно[,] такие случаи были в Пензе и Самаре. В Пензе такой бывши[й] миссионер начал преследование очень отсталой и малоразвитой секты, мало распространенной в России, так называемых Иоаннитов34. А в Самаре такой миссионер громил Ба[п]тистов и Евангелических Христиан, добиваясь через Советскую власть закрытия их молельных домов и собраний, о чем я своевременно сообщил Наркомюсту, но[,] к сожалению[,] кажется[,] безрезультатно. Этот Самарский миссионер[,] кажется[,] и по настоящее время орудует там. Необходимо дать общее распоряжение, чтобы миссионеры православной церкви[,] наравне с царской полицией, сыщиками и жандармами[,] ни в коем случае не могли бы занимать ответственных постов в Советской России, при чем к их доносам, ходатайствам, жалобам и кляузам надо относиться с крайней осторожностью, так как эти мракобесы были и есть действительными врагами просвещения и организации народа. УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА Влад. Бонч-Бруевич 22/III 1920 г.» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 162. Ед. хр. 39. Л. 1–1 об., 2–2 об. Авторизованная машинописная копия с обильной рукописной правкой. Подпись — автограф. Дата вписана от руки. Часть текста по правому краю срезана).
27 марта 1920 г. Айвазова препроводили в Бутырскую тюрьму. Арест был произведен по поручению следователя VIII отдела Наркомюста И. А. Шпицберга35. В качестве обвинения Айвазову были предъявлены результаты проведенных им в 1911–1913 годах «5 или 6 экспер[тиз] по делам хлыстов и скопцов» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 3).
16 апреля 1920 г. Айвазов в очередной раз обратился за содействием к Управделами Совнаркома, не догадываясь, что именно свидетельство В. Д. Бонч-Бруевича во многом сформировало негативное отношение к нему со стороны властных инстанций. Полагая, что «экспертизы — это давнее дело и амнистиями 1918–19 г. … покрытое», он просил дать ему «свободу до суда. А там, если суд осудит меня, я по[не]су наказание и буду просить только о снисхождении» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 3).
В тексте последнего по времени письма на имя Бонч-Бруевича от 5 мая 1920 г. заключенный выражал надежду попасть под действие амнистии от 1 мая 1920 г.: «Если бы, при применении ко мне амнистии, потребовалось назначить меня на Советскую службу, то покорнейше просил бы дать мне службу по месту моего семейного жительства — в Петрограде[,] и по роду моих познаний, т. е. по Наркомпросу или Нар-комюсту» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 4).
В том же 1920 г. И. Г. Айвазов вернулся в Петроград и до весны 1927 г. служил в различных государственных учреждениях. 26 марта 1927 г. он был вновь арестован (АУ ФСБ России по СПб и ЛО. Фонд уголовных дел. Д. П-83231. Л. 1–99). 13 января 1928 г. приговорен к трем годам ссылки (адмвысылки из Ленинграда) с конфискацией библиотеки и отправлен в Йошкар-Олу. В 1933 г. поселился в г. Павлограде Днепропетровской области, где работал в местном архиве. По выходе на пенсию в 1937 г. занимался богословием, в 1940–1950-х годах писал статьи и заметки для «Журнала Московской Патриархии». Умер 17 декабря 1964 г. Был реабилитирован прокуратурой Ленинграда 10 октября 1995 г.
Список литературы История ареста профессора Петроградской духовной академии И. Г. Айвазова органами ЧК (октябрь 1919 г. - май 1920 г.)
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 1, 2, 3-3 об., 4; Карт. 162. Ед. хр. 39. Л. 1-1 об.,2-2 об.; Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 1-2 об., 3, 4, 5-5 об.
- Государственный архив Российской Федерации. ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4, 5, 6, 7; Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 98. Л. 127; Ф. Р-4042. Оп. 1а. Д. 1а.Л. 3-4; Ф. Р-4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 13, 27; Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 511. С. 160-161.
- Центральный архив Федеральной службы безопасности России. ЦА ФСБ России. Ф. 1ос. Оп. 4. Д. 1. Л. 51 об.
- Архив управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. АУ ФСБ России по СПб и ЛО. Фонд уголовных дел. Д. П-83231. Л. 1-99.
- Гарнюк С. Д. Московская власть: советские органы управления, март 1917 - октябрь 1993: справочник. М.: Изд-во Главного архивного управления г. Москвы,2011. 943 с.
- Крапивин М. Ю. А. Ф. Филиппов и «Исполнительный комитет по деламдуховенства всея России» (1919-1920 гг.) // Исторические чтения на Лубянке: 15 лет / Общество изучения истории отечественных спецслужб. М.: Кучково поле, 2012. С. 62-73.