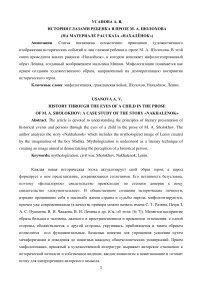История глазами ребенка в прозе М. А. Шолохова (на материале рассказа "Нахалёнок")
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению принципов художественного изображения исторических событий и лиц глазами ребенка в прозе М. А. Шолохова. В этой связи проводится анализ рассказа «Нахалёнок», в котором возникает мифологизированный образ Ленина, созданный воображением мальчика Мишки. Мифологизация понимается как прием создания художественного образа, направленный на демократизацию восприятия исторического героя.
Гражданская война, ленин, мифологизация, нахаленок, шолохов
Короткий адрес: https://sciup.org/147250431
IDR: 147250431 | УДК: 8.82-3
Текст научной статьи История глазами ребенка в прозе М. А. Шолохова (на материале рассказа "Нахалёнок")
Каждая новая историческая эпоха актуализирует свой образ героя, а народ формирует о нем представление, сохраняющееся столетиями. Его истинность безусловна, поэтому «фольклорное» свидетельство превосходит по степени доверия к нему свидетельство «документальное». В общественном сознании исторические личности, изрядно проявившие себя в масштабе жизни страны и судьбы народа, мифологизируются, причем уже современниками (в качестве примера можно назвать имена С. Т. Разина, Петра I, А. С. Пушкина, В. И. Чапаева, В. И. Ленина и др. (См. об этом: [6; 7]). Меняется восприятие образа большого человека, далекого в пространственном и временном отношении: с одной стороны, обожествляется, с другой стороны, укрупняясь, приближается и таким образом подводится под фундаментальные, базисные понятия для упрощения усвоения путем метафоризации и доведения до понятных каждому общечеловеческих универсалий. Прием мифологизации, принятый в художественной литературе, выражает авторское отношение к исторической личности и собственное видение, вводит символизм в повествование и готовит почву для интерпретации авторского замысла.
Мифологизация, по Е. Ю. Додолеву, есть «процесс (и результат означенного процесса) генерации художественного образа (вымысла) на базе реальных исторических событий (биографий и т. п.)» [2, с. 35]. К мифу обращаются сознательно как к инструменту художественной организации накопленного опыта, как к способу «выйти за социальноисторические и пространственно-временные рамки» [3]. Современные теории определяют миф как «некую емкую форму и структуру, которая способна воплотить наиболее фундаментальные черты человеческого мышления и социального поведения, а также художественной практики» [1]. В XX веке «миф стал одним из центральных понятий социологии и теории культуры» [4, с. 29].
Основные типы мифологизма в литературе были сформированы в начале ХХ века и соотносятся с именами Джеймса Джойса, Томаса Манна, Франца Кафки и Габриэля Гарсиа Маркеса. В отличие от традиционного мифа, новый литературный миф – это один из основных способов иносказания, художественный образ, созданный с помощью привлечения тех или иных черт мифологической образности. Мифологизм представляет собой не только художественный прием, но и специфическое мироощущение, передаваемое в произведении [5].
М. А. Шолохов использует прием мифологизации образа Ленина в исторический период, когда его культ личности безграничен, поэтому фактически писатель фиксирует закрепившееся тогда в обществе восприятие Ленина как божества, сошедшего на землю. И бросающаяся в глаза «простота» Ленина только ускоряла процесс его обожествления. Масштаб его личности и возможностей в воображении народа не имел предела. Простому человеку, не снабженному обширными историческими и политическими знаниями, фигура Ленина представлялась в сочетании общих фундаментальных понятий как что-то неосязаемое, но в то же время реальное и не лишенное личностных черт, близкое народу.
Так и для мальчика Мишки из повести «Нахалёнок» Ленин – «главный» человек в опосредованном восприятии через рассказы его отца, к которому он испытывает уважение и видит в нем пример, как во взрослом и умудренном жизнью и войной, прошедшей через него, человеке. Для мальчика через него транслируются истины и та самая правда жизни, которую, без сомнения, опытный и мужественный солдат постиг. Очевидно, что и образ отца в сознании Мишки не лишен мифологизированных черт, складывающихся из собственных воспоминаний, рассказов матери и деда и сублимированных в нечто единое и целостное – в большую фигуру, в образец и пример для подрастающего мужчины.
Отец Мишки появился внезапно, заполнив собой духовный и эмоциональный мир сына. Этот огромный для семилетнего мальчика образ, материализовавшись в настоящем, живом человеке, захватил его мысли, его жизнь, явился образцом для подражания. Мишка 2
слушал его рассказы о войне, о людях и через них познавал тот большой мир, в который ему только предстояло войти. Вместе с этим в нем формировалось и его собственное мировидение. Отец – знающий, прошедший и видевший многое, настоящий герой, родной, теплый и светлый человек – становится нерушимым идеалом и примером, гордостью Мишки. Этот образ, в силу своего возраста, мальчик может понять и осознать только на эмоциональном уровне, посредством сильно развитого в нем воображения, через фундаментальные понятия: доброта, защита и опора, справедливость и мужество, уважение и непогрешимость. Как следствие, отец вызывает абсолютное доверие, гордость и веру.
С отцом в жизнь Мишки входит ещё один объемный, но неосязаемый образ, постепенно увеличивающийся в его сознании – образ Ленина. Представление о нем, сначала загадочном и далеком, впоследствии ставшем близким и родным, принимает универсализованную форму в восприятии семилетнего мальчика. Метафора пахаря, собравшего полосу плугом, воплотилась в Мишкином сне в конкретный портрет незнакомого ему человека: «Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг, откуда ни возьмись, шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе » [8]. Этот образ такой же реальный для ребенка, как и черти, которые норовят зажарить его на сковородке, по словам поповского сына. Пахарь в красной рубахе с косой саженью в плечах был для него настоящим, вызывающим трепет и восхищение, безоговорочное доверие и легкую боязнь и вместе с тем чувство долга, дарящим ощущение защищенности и уверенность в важности своих будущих дел на благо идеалов, транслятором которых для Мишки и являлся этот «большой» человек.
За самоотверженную и преданную службу делу Ленина сын солдата просит лишь защиты от дедовской хворостины, ведь защита прав бедных и обездоленных от их гонителей и есть то правое дело, во имя которого предстоит воевать.
Отец и Ленин, появившиеся в его жизни одновременно, вызывали у мальчика сходные впечатления: они огромные и светлые, охватывающие необъятное, герои и защитники, но добрые и родные. Однако идеал Ленина, выраженный в высоченном пахаре в красной рубахе, способном перевернуть землю, сформировавшийся по рассказам родного отца, вскоре уточняется. К Мишке попадает фотография Ленина, на которой он оказывается маленьким человеком в пиджаке и с вытянутой вперед рукой. Этот новый облик Ленина он принял и срастил со своим прежним представлением о нем как об огромном человеке, хотя и не без удивления от столь неожиданного расхождения портретов: высокий пахарь в красной рубахе из его сна соединился с маленьким человеком на маленьком кусочке бумаги. Однако с этого момента начинается ещё большее сближение Мишки с хоть и не виданным им ещё, но точно существующим добрым и справедливым вождем. Мишка не расстается с 3
фотографией Ленина, носит ее под рубашкой у сердца, достает ее и говорит с ней. Эта фотография используется мальчиком как нательная иконка - символ веры, который всегда с собой. Нательной иконке предназначено сопровождать своих хозяев, оберегая от бед, предоставляя возможность обратиться с молитвой за поддержкой и благодарностью к почитаемому святому.
Абстрактный образ уподобляется тем образам, с которыми говорят взрослые в трудную минуту, стоя перед «красным углом» в избе, и которому кланяется дедушка, что-то проговаривая себе под нос перед сном. Мишка уверен, что человек с фотографии его слышит и обязательно защитит, стоит только ему, маленькому мальчику, вступить к нему на службу и служить своей преданностью.
Когда же Мишка лежит на земле в полусне-полубреду, выполнивший поручение деда и нашедший солдат, способных прийти на помощь и разгромить страшных чужаков, убивших его отца, в его сознании мелькают разные образы. Сначала это сам отец, живой, смеющийся, крутящий рыжий ус, за ним - дед, мать, а потом сам Ленин: не большая красная рубаха и широкие плечи с недюжинной физической силой в них, а маленький лобастый человек, указывающий на Мишку рукой. Но фигуру эту не могут обхватить протянутые мальчишечьи ручки - ведь это все тот же большой и священный образ Ленина, его последнего защитника и опоры, навсегда вошедший в детское сознание.
Это постепенное превращение из большого в маленькое и снова в большое претерпел абстрактно-реальный, мифологизированный в сознании Мишки образ вождя. А затем Мишке уже и не нужно было воображать Ленина великаном, чтобы понять его величие. Маленький человек с фотографии наделяется силой, способной взрыть и перевернуть землю и защитить всех бедных и лишенных надежды.
Большая фигура Ленина складывается из мелких деталей по рассказам отца и широких понятий добра, зла и более дробных, конкретных, но обширных человеческих черт.
Сознание Мишки усложняет восприятие Ленина, наделяя одновременно абстрактными и конкретными чертами, в силу буквального восприятия всего, что его окружает. Следует, однако, подчеркнуть, что мифологизация не равна упрощению и некоей схематизации, устраняющей сложную связь всех черт и качеств, присущих и обычному человеку, и, в особенности, выдающейся личности. Напротив, этот процесс создает цельный и разносторонний образ, приближающий его к представителям любого социального слоя и уровня образованности и житейского опыта, не перекраивая его, а лишь описывая на уровне простых, но существующих с самого зарождения человечества универсалий.
Мифологизация образов важнейших фигур в истории отдельной страны или всего человечества делает невозможным их забвение, закрепляя их в массовом сознании, а впоследствии и в художественном пространстве.
Список литературы История глазами ребенка в прозе М. А. Шолохова (на материале рассказа "Нахалёнок")
- Габриелян О. А. Мифопоэтика культуры: к возможной методологии исследования // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. - 2018. - Т. 4 (40). - №3. - С. 158-166. EDN: YSIGAP
- Додолев Е. Ю. Мессии. Мифологизация религиозных вождей // Новый взгляд. - 1992. - № 3. - С. 35-64.
- Лотман Ю. М., Минц З. Г., Мелетинский Е. М. Литература и мифы // Мифы народов мира: Энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.philologos.narod.ru/myth/litmyth.htm (дата обращения: 21.02.2023).
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976. - 407 с. EDN: WZEKXF
- Пьянзина В. А. Авторский миф в современной русской литературе // Universum: филология и искусствоведение. - 2019. - № 8 (65). - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskiy-mif-v-sovremennoy-russkoy-literature (дата обращения: 22.02.2023). EDN: CXJWSZ
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Жанровая специфика русского исторического романа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2019. - Т. 12. - № 1. - С. 195-200. EDN: YSIERF
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. О жанровой природе исторической песни: русско-эрзянский контекст // Вестник угроведения. - 2020. - Т. 10. - № 1. - С. 120-129. EDN: YIFOCV
- Шолохов М. А. Нахалёнок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://bookscafe.net/read/sholohov_mihail-nahalenok-59877.html#p1 (дата обращения: 18.02.2023).