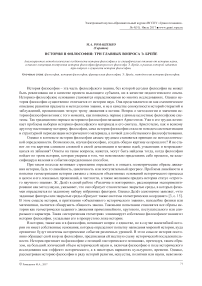История и философия: три главных вопроса Э. Брейе
Автор: Ромащенко Мария Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (51), 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируются методологические особенности истории философии и ее специфические отличия от истории науки, а также концепция построения истории философии французского философа Э. Брейе, в рамках которой задается три вопроса о сущности истории философии.
Философия, история философии, французская философия, э.брейе, методология истории философии
Короткий адрес: https://sciup.org/14822607
IDR: 14822607
Текст научной статьи История и философия: три главных вопроса Э. Брейе
История философии – эта часть философского знания, без которой сегодня философия не может быть реализована ни в качестве проекта мыслящего субъекта, ни в качестве педагогического опыта. Историко-философские основания становятся определяющими во многих исследованиях. Однако история философии существенно отличается от истории наук. Она представляется не как схематическое описание развития предмета и методологии знания, и не в качестве совокупности историй открытий и заблуждений, проясняющих четкую тропу движения к истине. Вопрос о методологии и значении истории философии возник с того момента, как появились первые удачные целостные философские системы. Так традиционно первым историком философии называют Аристотеля. Уже в его трудах возникает проблема выборки историко-философского материала и его синтеза. Аристотелю, как и всякому другому настоящему историку философии, сама история философии стала не поводом систематизации и структурной периодизации исторического материала, а почвой для собственного философствования.
Однако в контексте истории философии самым трудным становится принцип ее методологической определенности. Возможно ли, изучая философию, создать общую картину ее прошлого? И не станет ли эта картина слишком сложной в своей детализации и мозаике идей, угасающих и возрождающихся из забвения? Ответы на такие вопросы, кажется, могут быть найдены тогда, когда философия пойдет по тропе истории, которая уверена в том, что невозможно представить себе прошлое, не классифицируя явления и события определенным способом.
При таком подходе возникает стремление определить и описать геометрические образы движения истории, будь то линейность, цикличность или поступательный прогресс. Проблема линейности и попытки геометризации истории связаны с поиском объективных оснований исторического процесса в целом и его локальных проявлений, в частности, а также желанием придать истории статус «строгого научного знания». Ж. Делёз в своей работе «Различие и повторение», рассматривая экспериментирование как метод науки, указывает, что оно образует относительно закрытые среды, в которых феномен определяется по заданному набору избранных факторов. Однако Делёз однозначно заявляет, «что заданные факторы или закрытые среды образуют также системы геометрических координат» [3, с. 15]. В этом смысле история, в притязании «объективного исторического знания», наподобие физики или математики, пытается обнаружить общность закона. Таковыми попытками становятся все образы истории как геометрически заданного движения прямолинейного, кругового, поступательного или спирального характера. Такая «историческая геометрия» элиминирует собственно философское знание из истории философии, укладывая его в прокрустово ложе истории.
В истории, также как и в философии, возникает вопрос о единстве, но в случае масштабной истории он имеет собственные основания, которые определяют попытку написания мировой истории, куда органично будут вплетены исторические события различных уровней. В этом смысле история постоянно обращает свой взор на философию, предписывая ей жесткую схему исторической последовательности. Историк притязает на философию с позиций «исторического познания», претендуя, таким образом, на больший логический объем исторической науки и, включая философию в поле исторического исследования как «эффект» исторического, а в некоторых вариантах культурного, времени. Однако, рассматривая историю философии в ряду историй религии, искусства, политики или науки, невозмож- но обнаружить прогресса знаний, который традиционно склонна фиксировать история в культуре и в развитии позитивных наук.
Ученый, занимающийся позитивными науками, видит историю своей области знаний как естественный фон развития интеллектуальных концепций и набора экспериментов. В этом смысле, для становления ученого, факт прогресса позитивной науки очевиден, что совершенно не соответствует становлению философа, который видит в идеях мыслителей прошлого не «пройденный этап познания», а материал и источник живого акта философствования, помещенного в современность.
Таким образом, любые попытки аналогий между историей естественных наук и историей философии есть лишь методологическая схематизация философии, констатирующая ее преемственную историчность. В такой интерпретации история поставляет собственные матрицы, которые определяют предмет своего изучения, будь то биология, химия, физика или философия.
Попытка же навязывания истории неких геометрических форм, по которым движется развитие, в том числе и развитие философии, постулирует идею исторического единства и преемственности философского знания, часто выражаемое в последовательности различных школ и учений.
Философия связана с историей онтологически и в этом смысле современность становится ее неотъемлемой частью, так как философия постоянно осуществляется.
Обращение к археологии идей, концептуальным схемам и к личности философа является лишь одним основанием решения вопроса о методологическом статусе истории философии. Философствование же – это всегда, по мысли М.Мамардашвили, трансцендирование, выход через пределы, переход, который сводит к незначительному фон жизненного мира мыслителя. Любая система, которую мы называем философской, или, в крайнем случае, философским учением, по сути, является системой только в смысле ее возврата в матрицу истории философии, но сама по себе, будучи актом философствования и трансцендирования, выходит далеко за пределы матричной истории [5, с. 29–26].
Такой образ и методология истории философии рождается в работах французского философа и историка философии Э. Брейе. Эмиль Брейе известен своими трудами по истории философии. В 2012 г. в России вышел перевод его книги, на основе лекционных материалов, «Философия Плотина». Однако мимо русского философа почти незаметно прошла его большая работа «История философии», в которой Э. Брейе раскрыл собственное понимание оснований истории философии.
Тема того, что такое история философии, становится для мыслителя не только темой профессиональных занятий, но и темой собственной жизни. Переводчик на русский язык «Философии Плотина», А.С. Гагонин, назвал свою статью-предисловие к этой работе «Эмиль Брейе: философия как способ жить» и объяснил выбор названия тем, что оно объясняет две вещи: «философию как способ жить отдельного ученого и тот факт, что многие философские реалии, например Единое, Ум, Душа и т.д., могут быть поняты только как способы, какими должен жить каждый» [2, с.7]. Безусловно, это слова обо всей жизни Э.Брейе. Сам философ в своей небольшой статье «Как я понимаю философию» писал о философии как искусстве, которое «заключается в том, чтобы видеть в отдельной мысли просто переход, направление к другой мысли, скорее вектор, чем линию, скорее намерение, чем его реализацию». Такая согласованность и становится для историка философии отправной точкой, берегом, с которого начинается плавание великого творческого путешествия. Можно остаться на этом береге, сделать методологическую согласованность основой проекта истории философии, увидеть в ней принцип классификации и систематизации, и, таким образом, навсегда уничтожить живое философствование и движение мысли в схемах истории философии.
Для Брейе же история философии – это творчество, это путешествие, путь и движение. Он пишет, что «настоящая философия – это не система мыслей, а развитие, не завершение, а путь, переход» [1, с. 279]. Однако это не отменяет того, что в путешествии историка философии должно присутствовать единство движения.
Профессор А.А. Кротов в своей небольшой, но очень содержательной статье «Философия истории философии Э. Брейе» показывает как философ видит движение истории философии. «Брейе полагал, что в области истории идей неверно представлять развитие как простую смену одного изолированного события другим. Такой подход он считал подавляющим настоящую философию бесплодной эрудицией» [4, с. 60]. Живая история философии становится чем-то «вроде «серии призывов», находящих отклик в различных сознаниях, по большей части разделенных и местом и временем» [Там же, с. 61]. Так возникает основной вопрос истории философии о взаимосвязи прошлого и настоящего, истории и современности.
В предисловии к своей «Истории философии» Э. Брейе открыто говорит о трудностях и страхах историка философии, который притязает на создание всеобщей истории философии. Именно поэтому Брейе полагает, что необходимо задать три историко-философских вопроса, которые не просто очертят методологическую почву столь амбициозного труда, но и прояснят понятие самой философии, отличной от истории идей.
Первый вопрос – вопрос о границах и источниках философии. Э. Брейе задает его таким образом, что раскрывает сами основания истории философии. Он указывает на сторонников Аристотеля, которые принимают определенную методологическую позицию и называют первым философом Фалеса, и тех греческих историков, которые видели «истоки философии вне эллинской цивилизации» [6, с. 11]. Брейе обнаруживает, что «понятия, которые используют первые философы – судьба, закон, душа, бог – это не понятия, созданные ими самими, это уже известные идеи, коллективные представления, которые они вновь проявляют» [Там же, с. 12]. Однако, если философские системы, которые мы привыкли считать изначальными в истории философии, таковыми не являются, а есть только формы, выработанные на основе более древней единой идеи, то именно в этой идеи следует искать исток философского мышления. Греческие философы, скорее, изобрели сам способ рассуждения, но не идеи о сложности и многообразии, о едином [Там же]. Такой ответ об истоках философского знания, конечно, и для Брейе не является окончательным. Его задача определить эти вопросы, выявить их, указав на их принципиальную сущность для дела историка философии, но не дать на них единственный формальный ответ.
Вторым вопросом Брейе задает вопрос о границах истории философии. Очевидно, что этот вопрос связан с первым и также не может быть однозначно решен. Постановка проблемы о качестве специфики философского знания и его демаркации от искусства, науки, религии обнаруживается в различных способах, подходах и интерпретациях. Однако сам Брейе утверждает, что далек от ее догматичного толкования, а хочет решить вопрос исторически, но, не допуская единственного простого универсального решения [Там же, с. 14]. Брейе вводит понятие «интеллектуальный ритм времени», то есть то, что определяет специфику философии в различные эпохи. В этом интеллектуальном ритме рождаются образы философов: педагоги, реформаторы, ученые, но все они философы, выражающее нечто единое, независимо от того какой способ выражения они избирают. Брейе пишет: «В течении всей истории мы встречаем одних философов, которые являются учеными, других, которые, прежде всего, социальные реформаторы, как Конт или этики, например, стоики и проповедники; есть среди них отшельники – мечтатели, профессионалы спекулятивной мысли, как Декарт или Кант, а рядом те, кто стремиться воздействовать на души людей, например, Вольтер» [Там же, с. 15]. Но дело не только в личности самого философа, но и в том, смыслы и ценности какой эпохи он артикулирует. А.А. Кротов точно замечает, что для Э. Брейе «Внешние условия определяют форму системы, не ее сущность. Близкие по духу умы оказываются, как бы погружены в особое смысловое пространство, «внутреннюю длительность», в которой возможно взаимное проникновение» [4, с. 60]. И вместе с этим, если из истории философии, из истории идей исключить чувства, намерения, тех, кто эти идеи продвигает, то возможно подменить живую и уникальную мысль мертвой и безжизненной.
Третьим вопросом, который ставит перед историком философии, Э. Брейе звучит вопрос о том, есть ли у философии закон развития, или же последовательность философских систем ограничена и носит индивидуальный характер [6, с. 17]. Этот вопрос прочитан в методологическом контексте и представляется Брейе самым важным. Однако необходимость задать этот вопрос обнаружилась гораздо позже остальных вопросов. Дело в том, что философия понималась в единстве ее развития не всегда.
Брейе утверждает, что это результат проекта «достижений человеческого разума». Но, вместе с этим, существовала и иная модель, характерная для эпохи Возрождения. Эта модель в полной мере отразила идею о том, что не надо сообщать о прошлом, необходимо восстанавливать это прошлое и обращать человеческий разум к его живым источникам. Другими словами, «нельзя быть историком платонизма, не будучи самому платоником» [6, с. 18]. В этом смысле невозможно выстраивать историю философии, не будучи самому захваченным ею.
Таким образом, Э. Брейе ставит перед историком философии три вопроса, которые определяют любую попытку создания истории философии. Более того, эти три вопроса оказываются определенной «методологической бритвой» отсекающей лишнее в деле историка философии. Брейе и сам отвечает на эти вопросы, понимая, что ответы на них никогда не могут стать универсальными, так как история философии – это подлинное живое философствование, которое не может быть определено жесткими методологическими схемами и заперто в строгих правилах школ и традиций.
Список литературы История и философия: три главных вопроса Э. Брейе
- Брейе Э. Как я понимаю философию//Философия Плотина. СПб.: Владимир Даль, 2012.
- Гагонин А.С. Эмиль Брейе: философия как способ жить//Философия Плотина. СПб.: Владимир Даль, 2012.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. Кротов А. А. Философия истории философии Эмиля Брейе//Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2016. № 4. С. 49-64.
- Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990.
- Bréhier E. Histoire de la philosophie. I. Antiquité et Moyen Age. Paris: Librairie Félix Alcan, 1928.