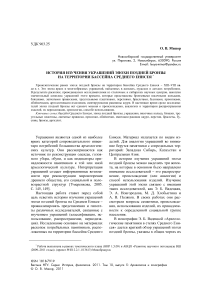История изучения украшений эпохи поздней бронзы на территории бассейна Среднего Енисея
Автор: Минор Олеся Вячеславовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Хронологические рамки эпохи поздней бронзы на территории бассейна Среднего Енисея - XIII-VIII вв. до н. э. Это эпоха ярких и многообразных украшений, найденных в женских, мужских и детских погребениях. В результате раскопок, проводившихся исследователями из столичных и сибирских научных центров, накоплен значительный комплекс украшений этого времени, которые представлены бронзовыми височными кольцами, бляшками, лапчатыми привесками, треугольными пластинами, перстнями, браслетами, бусинами, пронизками, обоймочками, аргиллитовыми изделиями, имитирующими раковины каури. В настоящее время среди исследователей эпохи поздней бронзы нет единого мнения о происхождении, аналогиях и территории распространения изделий, их периодизации, хронологии, способе использования.
Бассейн среднего енисея, эпоха поздней бронзы, украшения, височные кольца, бляшки, треугольные пластины, лапчатые привески, пронизки, обоймочки, имитации раковин каури, перстни, браслеты, бусины, бронза, аргиллит
Короткий адрес: https://sciup.org/14737515
IDR: 14737515 | УДК: 903.25
Текст научной статьи История изучения украшений эпохи поздней бронзы на территории бассейна Среднего Енисея
Украшения являются одной из наиболее ярких категорий сопроводительного инвентаря погребений большинства археологических культур. Они рассматриваются как источник по реконструкции одежды, головного убора, обуви, и как индикаторы принадлежности памятников к той или иной археологической культуре. Интерпретация украшений создает информативные возможности при реконструкции мировоззрения древнего общества, его социальной и половозрастной структур [Умеренкова, 2005. С. 145, 149].
Настоящая работа ставит перед собой цель осветить историю изучения украшений эпохи поздней бронзы на Среднем Енисее – проанализировать представления и гипотезы различных исследователей, связанные с изучением украшений (классификация, использование, распространение, периодизация). Исследование основано на материалах раскопок погребальных памятников, расположенных на территории бассейна Среднего
Енисея. Материал излагается по видам изделий. Для аналогии украшений во внимание берутся памятники с сопредельных территорий: Западная Сибирь , Казахстан и Центральная Азия.
В истории изучения украшений эпохи поздней бронзы можно выделить три аспекта, на которые в основном было направлено внимание исследователей – это распространение, происхождение (или аналогии) и способ использования изделий. Изучение украшений этой эпохи связано с именами таких исследователей, как Э. Б. Вадецкая, Э. А. Новгородова, М. Д. Хлобыстина и А. В. Поляков. В своих работах они рассмотрели вопросы семантики, происхождения, использования изделий, их принадлежности к определенной социальной группе населения.
В монографии Э. Б. Вадецкой «Археологические памятники в степях Среднего Енисея» дается краткий обзор украшений эпохи поздней бронзы, указаны в общих чертах их внешнее оформление и способы использования [1986. С. 51–76]. Эта монография является одной из первых работ, где собраны все материалы раскопок памятников данной эпохи с XIX в. до 80-х гг. XX в. Но в настоящий момент, в связи с исследованием новых памятников и накоплением оригинальных материалов, некоторые высказывания этой исследовательницы не подтверждаются. Так, Э. Б. Вадецкая сообщала, что проволочные височные кольца вплетали в волосы женщины и дети [Там же. С. 58]. Но на основе изучения нами этого вида украшений можно говорить о том, что в эпоху поздней бронзы они использовались не только женщинами и детьми, но и мужчинами – на это указывает наличие колец в погребениях мужчин. Такое явление было распространенным на территории Южной Сибири. Кроме того, нами ставится под сомнение утверждение о наличии серег, которые надевали на ушную раковину. Дело в том, что кольца, найденные в захоронениях, в большинстве случаев обнаружены на височных костях (что прослеживается как в ненарушенных, так и в потревоженных погребениях). Это заставляет предположить, что данные изделия являются не серьгами, а, скорее всего, височными кольцами. К тому же все эти изделия спиралевидные. Материалы таких памятников, как Бея (погребение 3), Карасук I (ограда 25, могила 4; ограда 28, могила 1), Терт-Аба (погребения 33, 45) и Сабинка II (могила 12), где кольца найдены на височных костях с остатками кожи или ткани, свидетельствуют, видимо, о креплении в некоторых случаях, колец к головному убору, изготовленному из кожи или ткани [Киселев, 1937. С. 326; Грязнов, Комарова, 1961; Павлов, 1999. С. 49, 52; 1995. С. 48].
Э. А. Новгородова проволочные спиральные височные кольца относит к третьей группе украшений и указывает на их центрально-азиатское происхождение [1970. С. 133]. М. Д. Хлобыстина выделяет две группы памятников в эпохе поздней бронзы: бейскую (начало II тыс. до н. э.), связанную с афанасьевскими традициями, и батенев-скую (конец II тыс. до н. э.), для которой характерны традиции юго-востока. Бейская группа, по ее мнению – это памятники позднего этапа эпохи поздней бронзы, она развивается в дальнейшем в баиновский этап тагарской культуры. Батеневская груп- па включила в себя «классические» карасук-ские памятники, дожила до времени тагар-ской культуры и исчезла. М. Д. Хлобыстина считает первую группу и ее украшения, в частности височные кольца, унаследованными от афанасьевской культуры. Она не находит аналогий украшениям этой группы за пределами Хакасско-Минусинской котловины, поэтому считает ее имеющей местное происхождение, истоком которой является афанасьевский энеолит [1963. С. 14– 15]. Обе исследовательницы выводят кольца из афанасьевской культуры, не указав аналогии с андроновской, в которой эти изделия имели широкое распространение как на территории Южной и Западной Сибири, так и Казахстана [Минор, 2007. С. 106; Матю-щенко, 2004. С. 21–28; Косарев, 1987. С. 280; Усманова, 2005. Рис. 17]. Н. А. Аванесова считает ареал бытования височных колец довольно широким. На Енисее, сообщает она, такие кольца известны в доандронов-ский период – в окуневских и афанасьевских памятниках, и были распространены до тагарского времени [1991. С. 56]. Эти изделия, как показывают материалы погребений, являлись распространенным украшением на всем протяжении эпохи поздней бронзы.
Видимо, ни одно из украшений эпохи поздней бронзы не вызывает столько дискуссий как лапчатые привески, вопросы семантики, происхождения, принадлежности и способов использования которых наиболее часто занимали внимание исследователей.
Э. А. Новгородова и В. В. Волков указывают на центрально-азиатские аналогии лапчатых привесок [Новгородова, 1970. С. 141–142; Волков, Новгородова, 1960. С. 159–160]. М. Д. Хлобыстина относит их к бейской и батеневской группам памятников поздней бронзы [1963. С. 14]. С. А. Тепло-ухов и М. П. Грязнов минусинские привески связывали с андроновской общностью и выводили их из Центрального Казахстана [Поляков, 2006а. С. 96]. А. В. Поляков указывал на три центра распространения привесок. Первый – минусинский, охватывал территорию Минусинской котловины, район Верхней Оби, Туву и восточные районы Западной Сибири. Второй – казахстанский, включал практически все районы Казахстана. Здесь они встречаются в погребениях андроновской культурно-исторической общности. Как и минусинские экземпляры, они найдены в районе головы и стоп погребенных, что, очевидно, свидетельствует об украшении ими прически и обуви. Третий – центрально-азиатский, охватывал огромные просторы Монголии, Забайкалья, северные районы Китая [Поляков, 2006а. С. 96]. А. В. Поляков считает, что на современном этапе обоснованной выглядит теория казахстанского происхождения, где ранние образцы относятся к алакульскому времени. Возникновение лапчатых привесок, видимо, связано с андроновскими накосными украшениями, известными с синташтинско-петров-ского времени. Среднеенисейские изделия эпохи поздней бронзы в большей степени имеют аналогии с андроновскими казахстанскими экземплярами [Там же. С. 96–97].
В. В. Бобров, исследуя ирменские лапчатые привески, пришел к выводу о возникновении их под воздействием культур позднебронзового времени Среднего Енисея, на что указывают формы, типичные для этого региона, найденные в ирменских могильниках Титово, Танай-7, Ваганово-2, на ирмен-ских поселениях Милованово-3, Моховое-3, Куделька-2. Всего в памятниках ирменской культуры зафиксировано 14 экз. таких изделий [2001. С. 204].
Н. Л. Членова отнесла привески к VIII и VII вв. до н. э. и территорией их распространения считала Украину, Томскую и Омскую области [1973. С. 199; 1992. С. 54]. Ю. С. Гришин отмечал, что лапчатые привески обнаружены в Прибайкалье (1 экз.), Красноярско-Канском районе (1 экз.) и Туве (2 экз.) [1971. С. 29; Кызласов, 1979. С. 31].
По мнению Э. А. Новгородовой, лапчатые привески зафиксированы чаще всего в женских погребениях, но они не могли принадлежать только женщинам, их носили и мужчины [1970. С. 141]. Мы можем не согласиться с данным утверждением, так как у мужчин они не обнаружены и встречаются только среди погребального инвентаря женских захоронений [Поляков, 2006а. С. 94; Бобров, 2001. С. 204]. М. Д. Хлобыстина считает данное украшение антропоморфной фигуркой, изображавшей мужчин. По ее мнению, лапчатые привески были женскими амулетами, связанными с культом плодородия, и, значит, можно говорить о становлении в обществе эпохи поздней бронзы идеологии патриархата [1963. С. 11].
В вопросе об использовании этих украшений также наблюдается поляризация мнений. Так, Э. Б Вадецкая сообщала, что лапчатые привески использовались для нагрудника, ожерелья, украшения косы и обуви. В косу вплетали по одной-две или шесть-восемь экземпляров одну над другой, а в конце косы – пучком [1986. С. 58]. Э. А. Новгородова говорила о привесках как части головного убора, свисавших от теменной повязки несколькими рядами. Такие уборы до сих пор существуют у якутов, эн-цев и дархатских незамужних девушек Монголии. Она считала, что привески с помощью колечек прикреплялись к височным кольцам, а не вплетались в косы [1970. С. 140]. По заключению М. Д. Хлобыстиной, привески вплетали в прически женщины и девочки, они входили также в нагрудное украшение. Аналогичный способ использования этого украшения зафиксирован у нганасанских женщин [1963. С. 10]. В. В. Бобров считал, что использовали лапчатые привески по-разному: украшали ими одежду, головной убор, прическу [2001. С. 204].
Сегодня существует несколько классификаций лапчатых привесок. Первая принадлежит М. Д. Хлобыстиной и основана на 120 экземплярах, большинство из которых являются случайными находками. Она делит эти украшения на три группы. В первую включает привески, имеющие стержневое тело, боковые выступы и три свисающие «лапки», во вторую – трапециевидное тело со сливающимися боковыми выступами и тремя свисающими «лапками», в третью – трапециевидное тело без боковых выступов, «лапки» маленькие или заменены «зубцами» [1963. С. 10].
Другая классификация – Э. А. Новгоро-довой, основана на 180 экземплярах, также в основном из числа случайных находок. Ею выделено шесть типов лапчатых привесок. За основу она взяла форму и размеры изделия, число «лапок». Первый тип – однопалые привески. Второй тип – двупалые привески, обнаружены в Восточной Сибири, Монголии. Третий тип – трехпалые (минусинские) привески. Это самая многочисленная группа, имеющая два-три выступа по бокам и три «лапки». Обнаружены они преимущественно на правом берегу Енисея, известны и в Монголии. Четвертый тип – трехпалые привески с волнистыми боковыми сторонами, насчитывающие до семи бугорков. К данному типу относятся крупные, массивные, длинные привески. Пятый тип – четырехпалые. По форме и размеру они близки с минусинскими привесками третьего типа. Шестой тип – трехпалые привески с ровными боковыми сторонами. Они генетически связаны с привесками четвертого типа. Изделия шестого типа массивнее остальных [1970. С. 144–149]. Стоит заметить, что в основу обеих классификаций легли случайные находки, что подвергает сомнению их достоверное отнесение к изделиям эпохи поздней бронзы Южной Сибири. Оба исследователя за основу взяли форму привесок: форму тела (стержневое или трапециевидное), оформление боковых граней и число «лапок».
Третья классификация, предложенная А. В. Поляковым в начале нового столетия, является достаточно полной и основана на находках из погребальных памятников, которые были раскопаны на протяжении конца XIX – начала XXI в. Он выделяет пять типов привесок. За основу взяты способ оформления боковых сторон и оформление «лапок». Первый тип – боковые стороны представлены в виде волнистой линии (не менее трех бугорков), три или четыре четко выраженные «лапки». Второй тип – привески с ровными боковыми сторонами, «лапки» менее четко выделены. Третий тип – трапециевидные привески с широким основанием, боковые стороны которых оформлены двумя-тремя крупными бугорками, слабовыраженные «лапки» (привески этого типа крупнее остальных). Четвертый тип – «комбинированные», состоящие из трапециевидной пластинки и трех длинных пронизок (подобные привески обнаружены в трех могильниках: Тагарский Остров IV, Чазы, Сабинка II). Пятый тип – привески с несколькими боковыми выступами, напоминающие перекладины, стержневым телом и тремя или четырьмя «лапками» (встречаются в погребениях лугавского и баинов-ского этапов эпохи поздней бронзы Белое Озеро I, Устинкино I). А. В. Поляков считает, что, несмотря на типологически ранний облик привесок пятого типа, они составляют поздний пласт и встречаются в погребениях лугавского и баиновского этапов. Известны могильники, где в одном погребении можно найти привески разных типов [2006а. С. 91–92]. Особенности данной классификации заключаются в том, что в ней рассмотрен совершенно новый тип привесок – «комбинированные», кото- рые отсутствуют у предыдущих исследователей.
Лапчатые привески не обнаружены в «классических» карасукских погребениях. Они появляются на карасук-лугавском этапе, где сменяются, по мнению Э. Б. Вадец-кой, треугольными пластинами с пуансонным орнаментом [Вадецкая, 1986. С. 58; Новгородова, 1970. С. 144; Поляков, 2008. С. 80]. А. В. Поляков дополняет это утверждение, указывая на «комбинированные» привески IV типа, являвшиеся промежуточным звеном между собственно лапчатыми привесками и треугольными пластинами. Очевидно, существовала единая линия развития, охватывающая эти два украшения [2006а. С. 93].
Говоря о семантике привесок, можно выделить две точки зрения. Одна из них была в свое время высказана А. Н. Липским. По его мнению, привески символизируют собой женщин [1956. С. 128]. М. Д. Хлобыстина связывает эти изделия с мужским началом. По ее мнению, они схожи с мужскими фигурами на петроглифах эпохи бронзы Южной и Восточной Сибири, Прибайкалья, Урала и встречаются в Альпах. Они являются бронзовой имитацией этих фигурок. Исследователь сопоставляет привески с трипольскими медными антропоморфными поделками, символизирующими мужчин, из Карбунского клада. Лапчатые привески эпохи поздней бронзы Южной Сибири, по мнению М. Д. Хлобыстиной, также являются антропоморфными фигурками, которые символизируют мужчин [1963. С. 11]. Она склоняется к тому, что привески – это амулеты плодородия, и связывает их с изображением птиц на шаманских бубнах: так как древние народы отождествляли птиц с душами детей, то такие представления, как считает М. Д. Хлобыстина, могли существовать у племен эпохи поздней бронзы [1967. С. 250].
А. В. Поляков предлагает свою точку зрения, которая заключается в следующем: лапчатые привески в Минусинской котловине воспринимались в качестве женских украшений и не несли сакральный смысл. Они неизвестны в самых ранних, «классических» карасукских памятниках и связаны с волной инноваций. Эти изделия являются чуждым элементом, привнесенным в культуру извне в полностью сформировавшемся виде. Связанные с «классическим» карасук- ским этапом I–IV типы привесок не могли быть антропоморфными изображениями – они использовались и для украшения обуви, значит, не имели сакрального значения. Так как многие эти изделия содержат явно выраженный литейный брак, это вызывает сомнение в возможности использования символа с нарушением изображения. Кроме того, на поселении Торгажак отсутствуют лапчатые привески, как отсутствуют их изображения на гравированных гальках, по мнению Д. Г. Савинова, передающих женский образ и использующихся в обрядах [Поляков, 2006а. С. 94–95].
Мнение исследователей об использовании и распространении трубочек-пронизок неоднозначно. В своем труде Э. Б. Вадецкая только упомянула о пронизках как украшениях, используемых для ожерелий и нагрудников [1986. С. 58]. В свою очередь Э. А. Новгородова отметила, что трубочки-пронизки часто встречаются в захоронениях вместе с лапчатыми привесками, обоймоч-ками, бляхами-розетками, реже – с перстнями или колечками. Пронизки, по ее мнению, не встречаются в памятниках бронзового века, на «классическом» карасукском этапе они появляются в Хакасско-Минусинской котловине с территории Центральной Азии [1970. С. 136]. Действительно, пронизки не встречаются в андроновских памятниках Среднего Енисея. Но они получили широкую известность в андроновское время на соседней территории – Западной Сибири [Позднякова, 2002. Рис. 1, 10; Позднякова, Хаврин, 2009. С. 62; Кирюшин и др., 2006. Рис. 1, 14–16].
Свою точку зрения высказал С. В. Киселев, считавший пронизки довольно распространенным украшением. По его мнению, они известны на западе от Минусинской котловины, в андроновских курганах Казахстана и южного Приуралья. Он считает, что эти изделия сохраняются в инвентаре более поздних, тагарских курганов [1951. С. 129].
Изучение бусин привело исследователей позднебронзовой эпохи к различным точкам зрения. Так, Э. А. Новгородова утверждает, что ожерелья состояли из бронзовых и пастовых бусин, а также из перламутровых речных раковин. Бронзовые и пастовые экземпляры нашивали на одежду или расшивали ими мягкую кожаную обувь [1970. С. 131]. С. В. Киселев отмечает два вида бусин: одни бронзовые массивные, литые, би- конической формы, аналогичные андронов-ским и тагарским экземплярам; другие – свернутые из бронзового листика [1951. С. 129–130]. Для ожерелья и вышивки нагрудников, по мнению Э. Б. Вадецкой, использовались в большом количестве пасто-вые и бронзовые бусины [1986. С. 58].
Э. А. Новгородова утверждает, что бусины эпохи поздней бронзы схожи с бусинами андроновской культуры, ее федоровского этапа. Пастовые экземпляры известны в ан-дроновских погребениях, глазковских памятниках в Прибайкалье и на территории Ордоса и Монголии [1970. С. 131]. С. В. Киселев считает, что бронзовые бусины распространялись по Сибири в андроновское время. Из этого следует, что они были известны андроновскому населению, а затем и населению эпохи поздней бронзы Среднего Енисея. Пастовые бусины, возможно, еще в эпоху бронзы широко распространились на территориях к востоку от Хакасско-Минусинской котловины, где найдены их аналогии. Можно предположить, что в котловину они попали в эпоху бронзы и продолжали существовать в тагарской культуре, как считал С. В. Киселев [1951. С. 130]. Перламутровые бусины эпохи поздней бронзы, по его мнению, по качеству такие же, как и андро-новские, и известны в Прибайкалье в глаз-ковских погребениях [Новгородова, 1963. С. 645].
Широко известные в эпоху поздней бронзы полусферические бляшки и бляхи-розетки имеют аналогии на соседних территориях. Э. А. Новгородова не считает полусферические многоярусные бляшки известными в эпоху бронзы в Южной Сибири, аналогии им встречаются в Забайкалье и Монголии [1963. С. 635]. Она упоминает об оленных камнях Монголии, где на одном из них можно видеть рельефное изображение трехъярусной бляшки с тремя отверстиями. Они выбиты на тех же оленных камнях, что и ножи, и кинжалы эпохи поздней бронзы [1970. С. 135]. Однако это высказывание Э. А. Новгородовой не совсем верное. Многоярусные бляшки встречаются в андронов-ских памятниках за пределами Южной Сибири и являются аналогичными позднебронзовым среднеенисейским экземплярам [Матющенко, 2004. С. 369; Аванесова, 1991. С. 65].
И. П. Лазаретов и А. В. Поляков относительно происхождения многолепестковых блях-розеток отметили, что на карасук-лугавском этапе эпохи поздней бронзы на Среднем Енисее появляется атипичная группа населения, пришедшая с территории Тувы и Монголии. В это время и появляются бляхи-розетки в Минусинской котловине. Исследователи отметили, что на следующем, лугавском этапе, бляхи-розетки уменьшаются в размерах [Лазаретов, Поляков, 2008. С. 44].
Э. Б. Вадецкая, М. Д. Хлобыстина и Э. А. Новгородова высказали схожие точки зрения о треугольных пластинах. Э. Б. Ва-децкая отмечает, что они содержат афанасьевские черты. Свое утверждение исследовательница аргументирует тем, что позднебронзовые пластины, как и афанасьевские накладки, имеют пуансонный орнамент [1986. С. 19]. М. Д. Хлобыстина относит треугольные пластины к бейской группе памятников эпохи поздней бронзы, чьи признаки унаследованы от афанасьевской культуры [1963. С. 14]. По мнению Э. А. Новго-родовой, пластины повторяют форму афанасьевских накладок. Поэтому она предполагает местное их происхождение [1963. С. 647]. Однако пуансонный орнамент был известен в андроновской культурно-исторической общности [Молодин, 1985. С. 103. Рис. 54, 25; Матющенко, 2004. Рис. 225; Аванесова, 1991. С. 59], и считать эти изделия афанасьевскими не совсем корректно. Видимо, у андроновского населения был заимствован только орнамент, а сама форма пластин принадлежит населению эпохи поздней бронзы Среднего Енисея.
Э. А. Новгородова утверждает, что в афанасьевских и раннеандроновских памятниках обоймочки не найдены. По мнению исследовательницы, обоймы эпохи поздней бронзы Южной Сибири имеют аналогии с центрально-азиатскими [1963. С. 636]. Данное высказывание подвергается сомнению. Дело в том, что обоймочки имеют аналогии в андроновских памятниках Казахстана и Западной Сибири [Усманова, 2005. Рис. 73; Шевнина, 2002. Рис. 1; Кирюшин и др., 2006. Рис. 1, 6–7; 2, 2].
Андроновское происхождение бикониче-ских перстней рассматривает Э. А. Новго-родова. Она относит их ко второй группе украшений эпохи поздней бронзы, близких к андроновским, и считает, что аналогиями биконических перстней можно считать анд-роновские образцы Северного Казахстана, у которых колечко заканчивается двумя спирально закрученными выступами. На востоке такие перстни не известны, как не известны они в Хакасско-Минусинской котловине в эпоху бронзы [1970. С. 130]. М. Д. Хлобыстина относит перстни как к бейской, так и батеневской группам памятников эпохи поздней бронзы [1963. С. 14]. Надо отметить, что аналогии этим перстням пока не обнаружены. Они не встречаются ни в андроновских, ни в позднебронзовых памятниках Западной Сибири и Казахстана.
В настоящий момент можно выделить две типологии браслетов эпохи поздней бронзы. Одна из них принадлежит С. В. Киселеву. Он разделял браслеты на три типа: спирально-проволочные, широко- и узкопластинчатые [1951. С. 128]. В своей типологии Э. А. Новгородова рассматривает браслеты в трех типах: 1 – пластинчатые широкие (они схожи, по ее мнению, с треугольными пластинами, а их, в свою очередь, она связывает с афанасьевскими медными накладками, украшенные ромбами и треугольниками; подобную версию высказала и М. Д. Хлобыстина, которая отнесла пластинчатые браслеты к бейской группе памятников, имеющей унаследованные от афанасьевской культуры традиции [Хлобы-стина, 1963. С. 14]); 2 – узкие браслеты, близкие к андроновским; 3 – литые, не имевшие прямых аналогов [Новгородова, 1963. С. 648; 1970. С. 126, 130, 164]. Как видно из сказанного, в обеих типологиях за основу взяты особенности изготовления браслетов: из проволоки, кованой пластины и литые. Непонятным остается, почему Э. А. Новгородова не рассмотрела проволочные браслеты, широко распространенные в эпоху поздней бронзы в ХакасскоМинусинской котловине. По поводу аналогий этим изделиям мы можем отметить, что узкие браслеты, очевидно, связаны с андро-новскими, которые появились на алакуль-ском этапе. Других аналогий таким браслетам не встречено [Новгородова, 1963. С. 645–646]. Браслеты, изготовленные из кованой или литой пластины, широко известны в памятниках развитой и поздней бронзы на территории Казахстана и Западной Сибири (Лисаковский I, Рублево-VIII, Ближние Елбаны-9, Журавлево-4, Ильинка-1, Еловский II, Ирмень 1) [Аванесова, 1991. Рис. 53, 1–10 ; Усманова, 2005. Рис. 69, 1–5 ; 70, 5–11 ; 71, 1–4 , 6–7 ; Кирюшин и др., 2006.
Рис. 1, 10 ; Папин, Федорук, 2009. Рис. 21; С. 115–116; Бобров и др., 1993. Рис. 26, 2 ; Троицкая, 1974. С. 36].
Происхождение, семантика и способ использования изделий, имитирующих раковины каури, которые являются редкими находками в захоронениях эпохи поздней бронзы, остаются практически неисследованными до сих пор. М. Д. Хлобыстина отнесла их к батеневской группе памятников [1963. С. 15]. По ее мнению, изделия, имитирующие раковины каури и лапчатые привески, имеют магическое значение. Эти украшения, найденные в погребениях женщин, свидетельствуют о широком бытовании культа плодородия в среде племен ранней стадии патриархальных отношений [Хлобыстина, 1970. С. 192–193]. Э. Б. Ва-децкая высказала мнение об использовании этих украшений. Она считает, что изделия, имитирующие раковины каури, служили шейными украшениями и использовались для вышивки нагрудников [1986. С. 58].
На основе украшений двух могильников (Сабинка II и Терт-Аба) дана первая реконструкция погребального костюма эпохи поздней бронзы на территории ХакасскоМинусинской котловины [Павлов, 1995]. П. Г. Павлов отметил устойчивость украшений, деталей одежды мужского и женского костюмов и частей тела. Однако количество изделий в женских погребениях позволяет говорить о богатстве женского костюма [Там же. С. 54–55].
Зиеп Динь Хоа классифицировал позднебронзовые украшения, изучил их распространение в Хакасско-Минусинской котловине и за ее пределами. Он высказал предположение, что изделия эпохи поздней бронзы произошли от андроновских, окуневских и афанасьевских изделий, т. е., развиваясь на местных традициях, украшения эпохи поздней бронзы самобытны. Под влиянием условий быта и обмена с соседями изделия изменяются и появляются новые типы. В результате культурного взаимодействия с юго-восточными соседями, население этой эпохи заимствует некоторые украшения, а племена Забайкалья и Монголии перенимают достижения племен эпохи поздней бронзы. Украшения лугавского этапа он связывает с украшениями тагар-ской культуры [1966].
Другую точку зрения высказала Э. А. Нов-городова. В своей монографии «Центральная
Азия и карасукская проблема» украшения эпохи поздней бронзы она разделила на несколько групп. Первая из них, по ее мнению, имеет аналогии в Центральной Азии, вторая – в андроновской общности. К третьей группе она отнесла традиции, унаследованные от афанасьевской культуры. Четвертая группа – это украшения, не имеющие прямых аналогий, т. е. те, которые, как считает исследовательница, встречаются в погребениях эпохи поздней бронзы, но ранее, в эпоху бронзы, неизвестны, и орнаментация на изделиях лишь напоминает юговосточный компонент [1970].
Анализируя украшения эпохи поздн ей бронзы, Э. А. Новгородова выделила три района их распространения на территории Минусинской котловины. Первый занимает юго-западную часть котловины, от р. Бея до р. Тесь. Здесь встречаются проволочные спиральные височные кольца, треугольные пластины, узкие браслеты. Памятники этого района она сближает с афанасьевской культурой [1963; 1970]. Исследовательница считает, что если лапчатая привеска была известна в этом районе, то она была треугольной формы и чеканная. Второй район – это северо-западная часть котловины, от г. Абакана до улуса Орак, по левому берегу Енисея. Украшения представлены бикони-ческими перстнями, бронзовыми, пастовы-ми, перламутровыми бусинами, треугольными пластинами, широкими литыми браслетами. Сходство инвентаря в данном районе, по ее мнению, проявляется с андро-новским. Северо-западный район ближе всех находился к центрам андроновской культуры, поэтому андроновское влияние здесь проявлялось сильнее. Ученая считает, что восточные элементы, проявляющиеся в орудиях труда, керамики и украшениях, свидетельствуют о большой роли юговосточного компонента в эпоху поздней бронзы. И третий район – это правобережье Енисея, низовья р. Абакан и левобережье р. Туба. Сюда включены следующие украшения: лапчатые привески, литые широкие браслеты, полусферические многоярусные бляшки, обоймы, трубочки-пронизки, многолепестковые бляхи-розетки, пастовые бусины, спиральные кольца, носившиеся на пальцах рук. Аналогии этим украшениям Э. А. Новгородова находит в Монголии и Центральной Азии и считает, что бикониче-ские перстни, треугольные пластины, узкие браслеты здесь не были распространены, как и в первых двух районах [1970. С. 164– 167].
Далее исследовательница утверждает, что украшения правобережья и левобережья Енисея отличаются по способу изготовления. Причину этого она видит в разном этническом происхождении племен эпохи поздней бронзы, а украшения правобережья считает аналогичными юго-восточным. По ее мнению, в Забайкалье и Центральной Азии найдена только часть позднебронзовых минусинских украшений, здесь не встречены изделия, имеющие местное происхождение на Среднем Енисее. Это позволяет Э. А. Новгородовой предположить движение позднебронзовых новых форм из Центральной Азии в Южную Сибирь [1963. С. 650–654; 1970. С. 164–167].
Остается непонятным, почему Э. А. Нов-городова относит не все украшения к тому или иному району. Так, лапчатые привески были распространены и в северной части Хакасско-Минусинской котловины, хотя и обнаружены здесь в небольшом количестве. Те украшения, которые, по ее мнению, типичны только для правобережья, зафиксированы и на левобережье Енисея. Возникает вопрос: выделение районов характерно для всей эпохи поздней бронзы или для ее определенного этапа? Видимо, говоря об украшениях, Э. А. Новгородова не берет во внимание тот факт, что изделия этой эпохи, постепенно изменяют формы и размеры, а часть их не встречается к концу лугавско-го этапа. Нет никаких оснований выделять памятники правого берега Енисея в отдельную группу.
Стоит отметить, что изделия эпохи поздней бронзы имеют аналогии не только с андроновскими изделиями Казахстана и Западной Сибири и позднебронзовыми экземплярами Центральной Азии, но и отражают сходство с изделиями ирменской культуры, для которой также характерны полусферические бляшки, трубочки-пронизки, аргиллитовые цилиндрические бусины, височные кольца. Так, в могильнике Камышенка (Алтайский край) найдены как украшения ир-менского и карасук-лугавского типа, так и уникальные в ирменской культуре [Членова, 1981. С. 104; Членова, Бобров, 1991. С. 146]. Здесь можно согласиться с А. В. Матвеевым, сопоставившим быстровский этап ир-менской культуры с «классическим» кара- сукским этапом, а собственно ирменский этап – с лугавским [Поляков, 2006б. С. 449].
Особенностями изучения украшений эпохи поздней бронзы является отсутствие единого критерия исследования изделий. Каждый из ученых посвящал свою работу одному из аспектов изучения украшений: происхождению, семантике, способу использования в погребальной практике населения, классификации. Они проводили поиск аналогий изделий далеко за пределами Среднего Енисея – на территории Центральной Азии, практически не обращая внимания на то, что большая часть позднебронзовых украшений Хакасско-Минусинской котловины имеет аналогии среди вещей, принадлежащих андроновской культурно-исторической общности Южной и Западной Сибири, Казахстана. В ходе изучения погребальных сооружений и обряда исследователи не рассматривали украшения как отдельную категорию погребального инвентаря, как особый исторический источник, а также не всегда уделяли внимание информативным возможностям украшений, их семантическому содержанию. Поэтому по степени изученности украшения в настоящий момент не стоят в одном ряду с оружием и керамикой. Кроме этого, отметим, что все перечисленные работы Э. А. Новго-родовой, М. Д. Хлобыстиной, Э. Б. Вадец-кой – это исследования прошлого столетия. На сегодня раскопаны и изучены новые погребальные памятники эпохи поздней бронзы, которые дали возможность расширить представления о погребениях, обряде, инвентаре, в том числе и об украшениях и выделить их новые виды («комбинированные» лапчатые привески, желобчатые подвески, подвески из кости животного, гривны). Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Не все изделия, найденные в погребениях населения эпохи поздней бронзы на территории бассейна Среднего Енисея и отмеченные исследователями как украшения, в действительности таковыми являются. На это нам указывает проведение аналогий с изделиями археологических культур сопредельных территорий, а также способ их использования и местоположение в погребениях.
В заключение отметим, что дискуссии по многим вопросам эпохи поздней бронзы не затихают до сих пор. Материалы раскопанных в настоящее время памятников и новое поколение археологов расширяют круг проблем, связанных с эпохой поздней бронзы, что приводит к возникновению новых точек зрения, а это значит, что дискуссии будут проходить уже по совершенно новым вопросам. Следовательно, история исследования эпохи поздней бронзы Южной Сибири продолжится.