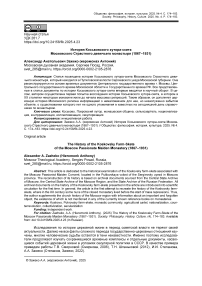История Коськовского хутора-скита Московского Страстного девичьего монастыря (1867–1931)
Автор: Зажеко А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории Коськовского хутора-скита Московского Страстного девичьего монастыря, который находился в Путиловской волости Сергиевского уезда Московской губернии. Она реконструируется на основе архивных документов Центрального государственного архива г. Москвы, Центрального государственного архива Московской области и Государственного архива РФ. Все представленные в статье документы по истории Коськовского хутора-скита впервые вводятся в научный оборот. В целом, автором осуществлена первая попытка воссоздания истории Коськовского хутора-скита, в котором в XX столетии некоторые монахини жили до начала массовых репрессий. Таким образом, он дополняет церковную историю Московского региона информацией о немаловажном для нее, но незаслуженно забытом объекте, о существовании которого нет ни одного упоминания в известных на сегодняшний день справочниках по монастырям.
Коськово, покровский хутор, монашеская община, сельхозартель, национализация, контрреволюция, коллективизация, секуляризация
Короткий адрес: https://sciup.org/149148136
IDR: 149148136 | УДК: 261.7 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.23
Текст научной статьи История Коськовского хутора-скита Московского Страстного девичьего монастыря (1867–1931)
Московская духовная академия, Сергиев Посад, Россия, ,
История каждого из российских православных монастырей самобытна и уникальна, но она всегда находится в контексте государственно-церковной политики конкретного исторического периода. Этому посвящены диссертации и статьи отечественных историков, в числе которых Л.Д. Беляев (Беляев, 2019), А.А. Зажеко (Зажеко, 2020), С.Г. Зубанова (Зубанова, 2017), Н.Д. Патюлина1, Н.П. Рузанова2 и многие другие исследователи.
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы дополнить церковную историю Московского региона информацией о Коськовском хуторе-ските, а также о монашеской общине, связанной с ним, которые в свое время составляли часть церковной, духовной, культурной жизни Подмосковья.
Московский Страстной монастырь с 1990-х гг. привлекает внимание верующего населения Москвы: его пытаются возродить, создана община, совершаются крестные ходы, по его истории пишут статьи. Коськовский хутор – утраченная составляющая данного монастыря. Объект под этим названием отсутствует на современных топографических картах Подмосковья. Последняя фиксация его была произведена на карте Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 1942 г. В наши дни на этом месте располагается подмосковный Софринский полигон города Красноармейска. Однако с 1896 г. и почти до начала 1930-х гг. оно было занято Покровским хутором-скитом, который принадлежал Московскому Страстному девичьему монастырю. В 1930-х – нач. 1940-х гг. его строения были фактически стерты с лица земли, а территория постепенно пришла в запустение.
Цель настоящего исследования заключается в воссоздании истории Коськовского хутора-скита Московского Страстного девичьего монастыря от основания до полной ликвидации в 1931 г., а также введение в оборот исторической науки новых архивных документов.
Из самой ранней документации, относящейся к истории Коськовского скита, становится очевидным тот факт, что территория, на которой он был основан, состояла из лесных угодий, принадлежавших Страстному монастырю еще до образования Коськовской монашеской общины. Нижняя хронологическая граница комплекса документов по лесным угодьям Страстного монастыря на территории д. Коськово обозначена указом императора Александра II от 14 апреля 1867 г.3 Документ был составлен по донесению члена Московской духовной консистории протоиерея Иоанна Загорского на ходатайство игумении Страстного монастыря Антонии о сдаче во временное пользование земель, принадлежащих монастырю. В указе упоминаются местности, на которых располагались лесные угодья Страстного монастыря – «территории Дмитровского уезда, расположенные в пустошах Селишки, Грибовой и Ярцевой в количестве 145 десятин»4.
Среди материалов находится делопроизводственная документация по выделению площадей лесной дачи Селишки, Грибовой и Ярцевой, принадлежащей Московскому девичьему Страстному монастырю, составленная по съемке и таксации5 в 1867 г. В них представлено описание лесных территорий и пород деревьев, произрастающих на них. Согласно итоговым данным, площадь территорий, принадлежавших монастырю, составляла: угодий – 1 десятину6, 1 960 саженей; лесной почвы – 43 десятины, 1 480 саженей; из них неудобной земли – 2 125 саженей7. Казенная десятина заключала в себя площадь 2 400 кв. саженей8.
Следующая документация – «Дело Московского Страстного монастыря о монастырском лесе», содержащее: указ Московской духовной консистории игумении от 10 апреля 1867 г., переписку игумении Валерии с игуменией Антонией из 5 писем, копию договора, заключенного 7 мая 1870 г. между Богородским купцом Семеном Якшиным и игуменией Антонией по поводу временной аренды лесных угодий Страстного монастыря сроком на 24 месяца, а также копию постановления Дмитровского мирового судьи 4-го участка от 13 июня 1871 г.9
Еще один документ – прошение, составленное в 1872 г. игуменией Валерией, – свидетельствует о продаже некоторой части древесного массива, расположенного в лесных угодьях мона-стыря10.
Таким образом, содержание всех представленных документов свидетельствует о том, что в разные годы часть лесных монастырских угодий предоставлялась во временное пользование частным лицам, а также использовалась самим монастырем. Сдача в аренду лесных угодий была продиктована недостатком денежных средств на устройство увеличивающейся монашеской общины в Страстном монастыре, о чем есть указание в прошении, поданном 8 апреля 1872 г. игуменией Валерией на имя митрополита Московского Иннокентия: «Заботясь о благоустройстве вверенного мне монастыря, я постоянно стараюсь изыскивать средства для покрытия нужд обители и все возрастающего числа сестер оной. Не принимать же вновь желающих вступить в число сестер не могу, потому что недостает рук для исполнения монастырских послушаний, так как многие из монахинь устарели и ослабели силами для тяжелых работ. К тому же, за скудостью собственных средств не имеют возможности поправлять принадлежащие им кельи и сараи, а между тем многие из них так ветхи, что по словам архитектора, свидетельствовавшего их, опасно для монастыря оставлять их далее в настоящем их положении»1.
Ряд смет, составленных в 1892 г., свидетельствует о появлении монашеской общины на территории д. Коськово гораздо раньше постройки скитского храма в 1896 г. Это: 1) смета на постройку жилого одноэтажного с мезонином деревянного дома в имении Страстного монастыря на сумму – 3 244, 42 рубля2; 2) смета на постройку деревянной конюшни, погреба, навеса, помойной ямы, ретирады и дворницкой на сумму – 5 076,14 рублей3; смета на постройку сарая на сумму – 972,14 рублей4.
Самая поздняя делопроизводственная документация по устройству скита представлена сметой 1897 г. «на вновь предполагаемую постройку деревянного одноэтажного жилого дома, помещений гостиницы и квартиры для священника при даче Страстного монастыря при вновь построенной церкви во имя Покрова Божией Матери»5 на сумму 4 500 рублей6. К сметным документам приложены проекты зданий, составленные известным архитектором Вячеславом Францевичем Жигардловичем7. Таким образом, становится очевидным, что упоминаемые постройки были сделаны после сооружения и освящения храма.
Писатель-археограф И.Ф. Токмаков в 1897 г. следующим образом описал архитектуру и внутреннее убранство Покровского храма Коськовского хутора-скита: «Вновь освященный храм – деревянный, на каменном фундаменте и сооружен на средства благотворителя М.Д. Орлова по проекту архитектора Жигардловича8. Верх храма увенчан несколькими куполами, а над входом сооружена колокольня высотой около 8 саженей. На ней помещено 8 колоколов весом около 100 пудов. Внутри вновь сооруженная церковь довольно вместительна. Трехъярусный иконостас в византийском стиле. Царские врата вызолочены. Святые иконы по вызолоченному фону исполнены Епанешниковым9. По бокам иконостаса и по стенам были расположены больших размеров иконы в киотах, а за престолом помещен больших размеров образ Воскресения Христова. Посреди храма и в притворе висели изящной работы паникадила, а возле икон – лампады и подсвечники. Ко дню освящения была пожертвована дорогая серебряная вызолоченная утварь, облачения и ценные металлические хоругви» (Токмаков, 1897).
Освящение храма состоялось 3 ноября 1896 г. Накануне было совершено всенощное бдение при большом стечении молящихся, которым раздавались духовно-нравственные брошюры и образки с изображениями Покрова Пресвятой Богородицы. Освящение храма и литургию совершал местный благочинный из села Баркова протоиерей Димитрий Березкин с прибывшим из Москвы священником церквей Страстного монастыря протоиереем Евграфом Никольским и тремя священниками из окрестных сел. На клиросе пели монахини Страстного монастыря. В храме присутствовали: настоятельница Страстного монастыря игумения Неофита со старшими сестрами, храмоздатель, приглашенные на торжество лица, а также паломники из окрестных сел и деревень, которым раздавались духовно-нравственные брошюры и образки. Памятную надпись об освящении храма сделали на мраморной доске и положили под престол. Около церкви построили большой двухэтажный деревянный корпус для 26 монахинь с кухней и трапезной, а рядом – деревянный флигель для священника. Имелись серьезные намерения и планы открыть здесь церковноприходскую школу10.
В клировой ведомости Покровской церкви за 1916 г. сообщается, что «церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в 1896 г. тщанием игумении Московского Страстного монастыря Неофиты1. Эта церковь – деревянная, на каменном фундаменте, по штату был положен один священник с ежегодным жалованием в 300 руб., кружечных доходов в 1915 г. было 200 рублей. Священнику выдавалась месячная провизия. Он пользовался монастырской квартирой с отоплением и освещением. Земля при церкви принадлежала монастырю. Дом для священно-церковнослужителей на церковной усадебной земле был построен тщанием игумении Сергии2. В церковной библиотеке было 50 томов книг духовно-нравственного содержания. При монастыре действовала школа. Церковь была бесприходной, только сестры-послушницы, 40 труждающихся и 18 певчих несли послушание на хуторе»3.
В послужных списках Страстного монастыря за 1915 г. имеются следующие сведения о духовнике Коськовской монашеской общины священнике Иакове Цветкове, который обучался в Вифанской духовной семинарии и окончил богословский курс в 1864 г. Через 2 года он стал священником храма Преображения Господня в с. Спасском Клинского уезда. В 1884 г. был переведен в храм Вознесения Господня в с. Раменки Дмитровского уезда. Служил законоучителем в Раменском земском училище. В 1905 г. был переведен в Покровскую церковь на даче Страстного монастыря. Являлся вдовцом, имел двух сыновей и дочь. Старший сын Савва был настоятелем Николо-Перервинского монастыря4.
После революции 1917 г. советской властью повсеместно проводилась национализация церковного имущества. Массовой национализации и конфискации имущества подверглись все монастыри, монастырские подворья и скиты. В 1919 г. был национализирован и Коськовский хутор-скит.
21 ноября 1919 г. состоялось заседание коммунистов Путиловского подрайона. На заседании слушался доклад о состоянии советских имений. По означенному вопросу указывалось на хаос в последних и требовалось признать советским имением Коськовский хутор Страстного монастыря. После обсуждения вопроса совет постановил: «Считать Страстной монастырь советским имением и для восстановления порядка в советских имениях избрать комиссию из 3 или 5 человек»5. При голосовании большинством были избраны 5 человек. Назначенным членам комиссии вменялось в обязанность приступить к делу 22 ноября и 28 ноября, а также сделать доклад на заседании партии6.
28 ноября 1919 г. состоялось плановое заседание коммунистов Путиловского подрайона. На заседании присутствовало 29 человек. Был выслушан доклад комиссии по обследованию Кось-ковского хутора Страстного монастыря. По его итогам сделано следующее заключение: «Из доклада видно, что в Страстном монастыре происходят самочинства заведующей хозяйством монахини Феодосии Мелиховой и заведующей скотным двором монахини Хионии, которые не находят нужным считаться с распоряжением исполкома и ими же были укрыты 3 коровы от описи»7.
После долгих обсуждений и прений комиссия постановила: «Монахиню Мелихову и Хионию сместить с должностей. Монашек в количестве 22 человек певчих оставить до полного составления плана хозяйства и до выяснения в районной партии коммунистов дела Страстного монастыря»8.
12 декабря 1919 г. в Сергиевский исполком поступила докладная записка от Путиловского совета РКП (б), в которой сообщалось о том, что в Страстном монастыре (здесь имеется в виду Коськовский скит) было произведено обследование. К записке прилагались акт обследования скита и выписка из протокола партии коммунистов Путиловского подрайона. В конце записки Пу-тиловский совет ходатайствовал перед Сергиевским исполкомом о передаче Путиловскому исполкому данного скита9.
Приведем полный текст акта обследования хутора Страстного женского монастыря, составленный при осмотре комиссией Путиловского исполкома: «25 ноября 1919 г., прибыв на хутор Страстного женского монастыря, нами была приглашена заведующая хутором монахиня Мелихова, в присутствии которой в первую очередь было обращено серьезное внимание на скотный двор, имеющийся на хуторе. После проверки скота в стойлах оказалось 4 лошади, 10 коров, доящихся два раза в день, 2 коровы, доящихся один раз в день, 1 бык-летник10, 1 бык-полуторник11, телят 4 штуки и 2 теленка-полуторника1. Затем был осмотрен запас сена в сараях, определить в пудах который не предоставляется возможным. По словам заведующей, сена хватит на весь скот до Пасхи будущего года. По нашему мнению, осмотрев запасы сена, вполне можно считать их удовлетворительными до весны. Затем приступлено к осмотру других зданий и хранилищ, входящих в черту скотного двора. Ожидая ключей от кладовки со старым железом близ скотного двора, товарищ Буров услыхал шорох в сенном сарае и тихое мычание коровы. Ворота, ведущие в тот сарай, были заперты и закиданы снегом, напоминая и отвлекая, что хода в эти ворота совсем нет. Тогда Буров совместно с товарищем Новиковым, пройдя в сарай в другие ворота, залезли на сено и обнаружили между двух сторон сена трех коров. Тогда потребовали заведующую откидать от ворот снег – отпереть ворота, где действительно оказались спрятанными три коровы и зарытым в сено стан колес. По словам заведующей, коровы эти недели три тому назад приведены с Москвы, потому что в Москве корма нет. На требование товарища Новикова сказать правду, почему коровы и колеса попали в тот сарай, заведующая после долгих запирательств созналась, что коровы есть собственность Страстного хутора, а не приведены из Москвы. Коров и колеса спрятали из-за боязни реквизиции и принятия на учет, так как таковые коровы предполагались в обмен на хлеб. Вечером в присутствии товарища Коршуновой был произведен удой коров, молока было найдено 10 бутылок, утром после ночи коровы дают 15 бутылок, следовательно, в сутки коровы дают 25 бутылок. По словам заведующей, коровы дают в сутки только по 15 бутылок. Все молоко делится между сестрами. В частном разговоре Коршунова узнала от скотниц, что все коровы здешнего хутора и ниоткуда не привозились. Затем были осмотрены кладовые с хлебом и овсом, запасы коих не внушают голода. Можно рассчитывать, что сестры хлебом и другими продуктами вполне обеспечены до Пасхи будущего года. По словам заведующей, сестры получают хлеба по 3/4 фунта2 на день и приварок с общего котла. В настоящее время на хуторе сестер 49 человек, из которых 16 певчих, а остальные несут хозяйственные работы. Во время нашего присутствия на хуторе сестры были в тревожном настроении. Узелки с своей работой, шерсть и бумагу бросали кто куда мог. Было найдено несколько клубков шерсти и бумаги. Шерсть возвращена владельцам, а два клубка бумажной пряжи, принадлежащей Вознесенской фабрике при сем представляются. Из вышеизложенного явствует, что хутор монастыря кем-либо оповещен о приезде комиссии, что доказывает укрывательство коров и колес. По осмотру всех зданий хутора и вообще наружных площадей замечен полный порядок. Осмотрели богадельню в доме монастырской гостиницы, которая оказалась в должном порядке. Богаделки получают 1/2 фунта хлеба и горячий приварок. Богаделки со слезами умоляли походатайствовать перед кем это будет надлежать увеличить паек хлеба. Недостаток хлеба заставляет многих нищенствовать. Комиссия по обследованию хутора Страстного монастыря постановила настоящий акт вместе с описью инвентаря представить в партию коммунистов Путиловского подрайона и Путиловский исполком»3.
24 декабря 1919 г. Сергиевский районный комитет РКП (б)4 направил письмо в Сергиевский исполком следующего содержания: «Препровождая при сем выписку из протокола заседания Пу-тиловского подрайонного комитета РКП (б) и акт обследования монастыря, районный комитет просит принять все зависящие меры для искоренения безобразия на хуторе Страстного монастыря и для привлечения виновных к ответственности»5. Покровский скит как монастырь был ликвидирован. Однако монахини в начале 1920 г. на территории бывшего скита организовали Покровскую сельскохозяйственную (полеводческую) артель. Согласно опубликованным материалам Всесоюзной переписи 1926 г., в ее состав входили трудящиеся в количестве 41 человека6.
В 1922 г. советской властью был издан Декрет об изъятии церковных ценностей7, а также постановления о порядке изъятия. Провозглашалось, что эта активная кампания организована ради помощи голодающим. В посланиях Святейшего Патриарха Тихона к священнослужителям и народу особо подчеркивалась недопустимость изъятия священных предметов, использовавшихся непосредственно за богослужением. Также отмечалось воспрещение канонами Церкви использования священных предметов в других целях. Во время изъятия ценностей происходили массовые народные волнения. В Московской губернии ситуация в этом отношении была спокойной, о чем свидетельствуют архивные акты изъятия.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы Коськовского скита изъятие церковных ценностей производилось 8 мая 1922 г. Сергиевской уездной комиссией в составе уполномоченного О.Г. Ван-ханена, помощника уполномоченного В.И. Карева и секретаря А.А. Кеслера1. Со стороны приходской общины и верующего населения Коськово при изъятии ценностей жалоб и каких-либо выступлений не было. Однако комиссией было зафиксировано нарушение следующего характера: «Налицо не оказалось книги-описи церковного имущества, которая по заявлению верующих, находится в Страстном монастыре в Москве. В описи, произведенной при приемке храма верующими от 27 декабря 1918 г., не оказался внесенным серебряный большой напрестольный крест. Не было внесено и указание металла на иконах Илии Пророка и Успения Божией Матери, оказавшиеся серебряными»2.
Согласно описи, составленной 8 мая 1922 г. Сергиевской уездной комиссией, из скитской церкви было изъято: 2 серебряных лампады, 6 серебряных риз, серебряная рамка, 7 серебряных венчиков, золотая монета и золотой крестик, несколько серебряных монет. Общий вес изъятого серебра составил 23 фунта и 6 золотников, золота – 5 золотников3.
На всей территории Московской губернии в период 1923–1926 гг. осуществлялась массовая перерегистрация приходов, которой занимались местные органы власти и представители уездных отделов милиции. Она подразумевала заключение типовых договоров между приходами и исполкомом – с одной стороны и с приходской общиной – с другой. Кроме того, составлялись списки верующих, священнослужителей и церковно-приходского совета, а также производилась опись священных предметов и имущества храма.
Регистрация приходской общины Покровского храма Коськовского скита проходила 10 мая 1926 г. Представителем Сергиевского уездного исполнительного комитета в лице начальника милиции Сулина Василия был заключен договор с приходской общиной храма. Данный договор предписывал общине многочисленные обязанности. В случае невыполнения их или же прямого его нарушения4 община подвергалась уголовной ответственности, а договор должен был быть аннулирован. Таким образом, прихожане храма ставились в очень жесткие рамки. Власти могли расценивать в зависимости от обстоятельств любые действия священнослужителей и верующего населения в зависимости от обстоятельств: если срочно требовалось закрыть храм под какие-либо учреждения, то находили причины и указывали на неисполнение договора.
Договор подписали 20 человек приходской двадцатки5. Далее прилагался «список членов группы верующих Покровской церкви села Коськово Путиловской волости Сергиевского уезда»6. В нем поставили свои подписи 60 человек в возрасте от 18 до 76 лет. Из них 41 человек – монахини скита, 19 – местные жители. Это может свидетельствовать о том, что состав населения храма Покрова Божией Матери при Коськовском ските был в основном монашеским. Основная часть жителей села Коськово входила в приходскую общину соседнего села Муромцево. Следует учитывать еще и тот факт, что оказаться в подобном списке в годы усиливающейся антирелигиозной политики было равно признанию в открытом исповедании веры. В целом, можно говорить о том, что в списке членов группы верующих Покровского храма села Коськова представлен так называемый костяк прихода, так как индифферентная часть населения в эти годы очень часто покидала приходы из-за возможных политических преследований.
При заключении договора были записаны дополнительные сведения о реставрации, ремонте и других работах, производившихся в храме в 1920-х гг. Например, в 1924 г. был произведен ремонт паперти храма и замена стекла в оконных рамах7. Это свидетельствует о том, что даже в такие нелегкие годы в Коськовском скиту осуществлялись необходимые хозяйственные работы.
Среди документов по регистрации прихода были представлены: «Список служителей культа»8, «Опись изъятия из Покровской церкви»9 1922 г. и «Опись церковного имущества Покровской церкви Путиловской волости Сергиевского уезда Московской губернии»10.
Среди прочих документов по регистрации общины были добавлены краткие сведения о регистрации общины в 1923 г., в которых сообщалось, что Покровская церковь «взята по договору в пользование от государства группой 52 христиан православного вероисповедания»11.
Массовая регистрация приходов проводилась советской властью с основной целью – определить предположительное количество верующих. Практически сразу после нее состоялось массовое закрытие церквей. Применялись разные способы передачи их в пользование местным властям или советским организациям для обеспечения насущных нужд. Все же самым основным приемом закрытия было обложение храма непомерными налогами, которые верующее население не всегда могло оплатить.
Под видом сельскохозяйственной артели монашеская жизнь велась сестрами бывшей общины и после ликвидации скита. Сохранилось письмо архимандрита Петра (Руднева), составленное 10 марта 1928 г. и адресованное монахине хутора-скита Анастасии (Малофеевой). Из письма архимандрита Петра становится очевидным факт сохранения монашеской жизни в Коськовском хуторе: богослужения, совершение постригов1. В своем письме архимандрит Петр сетует на отсутствие возможности посетить общину и совершить постриги в Коськовском хуторе «по должности благочинного монастырей»2, указывая на причину своей безысходности: «Управляющий епархией буквально убивает всякую энергию и всякое желание что-либо делать полезное. Ему совсем не интересны ни монастыри, ни монашествующие»3. По всей видимости, здесь под управляющим епархией имеется в виду преосвященный Филипп (Гумилевский), который был назначен в мае 1927 г. архиепископом Звенигородским временно управляющим Московской епархией. В 1928 г. Петр (Руднев), назначенный епископом Сергиевским, викарием Московской епархии, посетил Коськовский хутор.
Во второй половине 1920-х гг. антирелигиозная политика советской власти стала приобретать жесткие формы, перейдя от относительно умеренной секуляризации к массовому уничтожению Церкви. Повсеместно стали ликвидироваться сельхозартели, состоявшие из монашествующих, закрывались приходские храмы, было положено начало выявлению подпольных церковных общин – противников коллективизации.
В 1928 г. была ликвидирована сельхозартель при Коськовском хуторе. Монахини были вынуждены покинуть стены скита и искать для себя кров у местных жителей. Бывшими прихожанами были собраны средства на покупку земельного участка и дома для сестер обители. Богослужебная и трудовая деятельность монахинь продолжалась в соседнем храме села Муромцево. Был организован хор из числа сестер, остальная часть монахинь выполняла различные послушания в храме. Помимо этого, они занимались рукоделием – стегали одеяла. Деятельность сестер стала привлекать внимание Пушкинского ОГПУ4, которое инициировало донесение о существовании контрреволюционно настроенной церковной группы бывшего Коськовского хутора. 16 марта 1931 г. были арестованы монахини, проживавшие на территории сел Коськово, Лукьянцево и Муромцево: Хиония (Воробушкина), Наталия (Климова), Надежда (Иванова), Анна (Гасилина), Ксения (Чуркина), Елизавета (Кэлло), Анна (Паршина), Феодосия (Мелихова), Елизавета (Новикова). Всего в обвинительном списке указано 12 человек. По всей видимости, значительная часть монахинь из представленного списка поступила в монашескую общину после 1915 г. (о совершении постригов в 1920-х гг. также упоминалось в письме архимандрита Петра (Руднева) монахине Анастасии).
В этот же день все монахини, подозреваемые в уклонении от коллективизации, были допрошены в Пушкинским отделе ПП ОГПУ по Московской области. Вместе с монахинями были арестованы прихожане из зажиточных крестьян – А.П. Мещанинов, А.Г. Охапкин и М.И. Точкин, оказывавшие помощь Коськовской монашеской общине в трудные годы.
Согласно следственной сводке ОГПУ, Коськовская монашеская община, категорически отказывавшаяся от участия в коллективизации, относилась к радикальному типу. Среди монахинь распространялся апокалиптический настрой, иногда выходивший за рамки общины. Монахиня Анна (Гасилина) при встречах с местными жителями говорила: «Настало тяжелое время, но оно преходящее. Кто сейчас царствует, эти люди погибнут, все пойдут к виселице»5. Другая монахиня, Хиония (Воробушкина), в мае 1930 г. после богослужения в день памяти великомученика Георгия, обращаясь к местным женщинам, говорила следующее: «Милые женщины! Над нами коммунисты надругаются, что мы держимся за Бога. Не дают нам есть, хотят уморить с голоду. Эта участь неизбежна и для вас, если будет существовать эта власть»6.
В день ареста монахинь в качестве свидетелей в Пушкинский отдел ОГПУ были вызваны представители местного населения. Житель села Коськова В.С. Антипов дал следующие показания по делу о подпольной общине: «Вышеуказанные лица (Мещанинов, Охапкин, Точкин) старались компрометировать советскую власть путем использования монашек: … (приводится 7
имён) …, которым Мещанинов, Точкин и Охапкин сумел от имени общества нелегальным протоколом отвести усадьбы под постройку монашеских домов. Эти же лица возили им на постройку домов лес, при помощи которого в Коськове был выстроен монашкам дом… И после этого на другой день можно было видеть ту или иную монашку среди женщин, агитирующую против советской власти»1.
Опросив всех свидетелей, следователь Пушкинского отделения ОГПУ С.П. Аверьянов составил следующее заключение: «Проводимая советской властью коллективизация встретила сопротивление со стороны кулацко-зажиточной части села Коськово в лице Мещанинова А.П., Охапкина А.Г., Точкина М.И. и проживающих там монашек. Вышеуказанные лица систематически занимаются агитацией, используя вышеуказанных монашек, что доказано показаниями свидетелей, а посему обвиняются в преступлении, предусмотренном ст. 58. п. 10 УК»2.
20 марта 1931 г. постановлением ПП ОГПУ А.П. Мещанинов, А.Г. Охапкин и М.И. Точкин были приговорены к пяти годам исправительно-трудовых лагерей в Западно-Сибирском крае, монахини бывшего Коськовского хутора-скита – к трем годам исправительно-трудовых лагерей Казахстана3.
Завершая наше повествование, сформулируем следующие выводы:
-
1. В оборот исторической науки введены ранее не изученные архивные источники:
-
– ЦГАМ. Ф. 203. Московская духовная консистория. Оп. 763. Д. 143. Послужные списки священнослужителей Московского уезда, 1915–1916 гг.;
-
– ЦГАМ. Ф. 1185. Московский Страстной девичий монастырь. Оп. 1. Д. 43. Покровский хутор в Дмитровском уезде близ деревни Коськово, 1867–1897 гг.;
-
– ЦГАМ. Ф. 1371. Канцелярия епископа Серпуховского, викария Московского). Оп. 1 (Дела постоянного хранения). Д. 75 (Послужные списки, 1902–1917 гг.);
-
– ЦГАМО. Ф. 66. Московский Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов. Оп. 18. Д. 297. Протоколы, описи, акты по изъятию церковных ценностей Сергиевского уезда, 1922 г.;
-
– ЦГАМО. Ф. 2173. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Сергиево-Посадском совете рабочих и крестьянских депутатов). Оп. 1. Д. 23. Документы о взимании налогов с населения, обязательные постановления, протоколы, выписки из протоколов, списки, переписка, 1918–1919 гг.;
-
– ЦГАМО. Ф. 3934. Сергиевское уездное управление милиции. Оп. 2. Д. 94. Дело о регистрации здания культа Покровская церковь села Коськово, 1926 г.;
-
– ГАРФ. Ф. 10035. Управление Комитета Государственной Безопасности СССР. (УКГБ) по г. Москве и Московской области. Оп. 1. Д. П-75825. Следственное дело: Охапкин Александр Григорьевич, Воробушкина Хиония Степановна, Келло Елизавета Антоновна, Гасилина Анна Михайловна, Климова Наталья Ивановна, Новикова Елизавета Васильевна, 1931 г.
-
2. История церковной жизни Московского региона дополнена воссозданием исторических фактов о Коськовском хуторе-ските Московского Страстного девичьего монастыря до 1931 г. как части церковной, духовной, культурной жизни Подмосковья до начала массовых репрессий.
Список литературы История Коськовского хутора-скита Московского Страстного девичьего монастыря (1867–1931)
- Беляев Л.А. Монастыри Московской Руси: этапы археологического изучения и современное состояние // Краткие сообщения Института археологии. 2019. № 256. С. 7-22. DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.256.7-22
- Зажеко А.А. Попытки сохранения легального существования монашеской жизни Троице-Сергиевой Лавры на территории Сергиева Посада в условиях антирелигиозной политики советской власти в 1918-ом - 1920-е гг. // Теология: история, проблемы, перспективы. Липецк, 2020. С. 90-96. EDN: FONOKS
- Зубанова С.Г. Возрождение практики социальной деятельности монастырей: утраченный опыт в ретроспективе и современные тенденции // Общество: философия, история, культура. 2017. № 4. С. 81-86. DOI: 10.24158/fik.2017.4.20 EDN: YJMEKP
- Смирнова Т.В. Сергиев Посад: репрессии 1920-х годов // Труды Государственного исторического музея. Вып. 169: Забелинские научные чтения. М., 2006. С. 53-59.
- Степанов И.И., Зажеко А.А. Опыт сохранения монастырской самобытности в обителях Подмосковья в условиях музейной политики советской власти (1917-1930 гг.) // Общество: философия, история, культура. 2022. № 5 (97). С. 155-166. DOI: 10.24158/fik.2022.5.23 EDN: QPCVHQ
- Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание Московского Страстного девичьего монастыря. М., 1897. 152 с.
- Шпанькова Т.Н. Сергиев Посад. Штатные слободы. Сергиев Посад, 2012. 198 с.