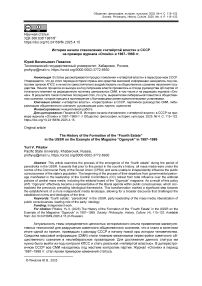История начала становления «Четвёртой власти» в СССР на примере журнала «Огонёк» в 1987–1988 гг.
Автор: Пикалов Ю.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс появления «четвёртой власти» в перестроечном СССР. Утверждается, что до этого периода истории страны все средства массовой информации находились под контролем органов КПСС и не могли самостоятельно воздействовать на общественное сознание населения государства. Начало процесса их выхода из-под патронажа власти проявилось в отходе руководства ЦК партии от тотального влияния на редакционную политику центральных СМИ, в том числе и на редакцию журнала «Огонёк». В результате такой политики последний стал, по сути, выразителем либеральной повестки в общественном сознании, которая пришла в противоречие с бытовавшими ранее идеологическими установками.
«четвёртая власть», «перестройка» в ссср, партийное руководство сми, либерализация общественного сознания, руководящая роль партии, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/149148127
IDR: 149148127 | УДК: 366.636“1987/8” | DOI: 10.24158/fik.2025.4.15
Текст научной статьи История начала становления «Четвёртой власти» в СССР на примере журнала «Огонёк» в 1987–1988 гг.
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия, ,
,
В данной статье рассматривается начало выхода журнала из полной зависимости от идеологического контроля ЦК КПСС и обращения к либеральной повестке, которое укладывается в период 1987–1988 гг.
Прежде всего следует кратко осветить историю становления системы СМИ СССР под руководством партийных органов. Она начала складываться в конце 1900 г. с момента выхода первого номера партийной газеты «Искра». В.И. Ленин смог превратить ее в главный инструмент создания партии нового типа. Он писал: «Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» (Ленин, 1967: 11).
В этом высказывании В.И. Ленин сформулировал миссию и основные направления деятельности всех СМИ советского государства надолго вперед. Во-первых, СМИ должны были стать базовым элементом идеологического воспитания советских людей. Во-вторых, они объединяли политических союзников, выявляли их оппонентов и создавали возможность борьбы с ними вплоть до полного устранения из общественной жизни. В-третьих, обеспечивают положительное восприятие политики партии широкими массами населения. В-четвёртых, позволяют целенаправленно организовать деятельность всей партийной структуры от ЦК партии до первичных парторганизаций.
Высокая ленинская оценка роли СМИ в партийной, революционной, а в дальнейшем и государственной деятельности повлияла на установление полного контроля власти над их деятельностью. Как верно отметила в своем исследовании С.И. Никонова: «Средствам массовой информации СССР традиционно отводилась роль ретрансляторов партийных решений и программ... все СМИ ... находились в идеологическом поле, отсюда сохранение жесточайшего контроля и цензурных рамок. Важной функцией советских СМИ было формирование общественного мнения и воспитания граждан в духе марксистско-ленинской идеологии...» (Никонова, 2014).
Любые отклонения от общепринятых норм карались самым жестким образом. Примером тому могут служить известные постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»1. Данный подход партийных органов к контролю за деятельностью всех без исключения СМИ сохранялся вплоть до периода «перестройки».
С началом указанного периода в руководящей деятельности ЦК КПСС появилась новая, своеобразная черта. Если какие бы то ни было события противоречили партийным установкам или Конституции СССР, но были выгодны высшему партийному руководству, они допускались без последствий для их инициаторов.
М.С. Горбачёву для проведения либеральной политики, которая могла вызвать противодействие партийного аппарата еще до его радикальной ротации, потребовалась своеобразная «оппозиция» в лице неформальных общественных организаций. В 1986 г. он на встрече с работниками СМИ так объяснял необходимость существования неформального движения: «Большинство консервативных проявлений, ошибок и просчётов деятельности КПСС вызвано отсутствием в стране оппозиции» (Барабанов, 2011).
Прежние ограничения на создание общественных организаций строго под контролем политических структур уже не удовлетворяли потребности высшего партийного руководства страны в ускоренном развитии «оппозиции». Поэтому в мае 1986 г. Президиум Верховного Совета СССР принял «Положение о любительском объединении, клубе по интересам». В нем предельно упрощалась процедура создания подобных организаций. Теперь за их создание и деятельность могли отвечать учреждения культуры и спорта, учебные заведения2.
При этом надо понимать, что статья 6 Конституции СССР 1977 г.3 была отменена только в марте 1999 г. III Внеочередным съездом народных депутатов СССР. Следовательно, постановление 1986 г. было незаконным и лишало КПСС возможности руководить политической системой страны, привело в дальнейшем к распаду ВЛКСМ, профсоюзов и так далее. Но оно нужно было М.С. Горбачёву и было поставлено выше закона.
Подобная же стратегия применялась и в отношении СМИ – необходим был их вывод из-под руководства КПСС. Здесь главную роль сыграл секретарь ЦК КПСС и ближайший сподвижник
М.С. Горбачёва А.Н. Яковлев. Его деятельность на этом направлении была высоко оценена единомышленниками. В. Лошак в своей статье «Только не надо вранья! Каким человеком был архитектор перестройки Александр Яковлев?» писал: «Если бы не Александр Николаевич, то в середине 1980-х не появился бы ни тогдашний “Огонёк”, ни “Московские новости”, за которыми мало-помалу к новым свободным стандартам журналистики подтянулись и многие другие газеты и журналы. Для начала в 1986 г. на журнал в Киеве нашли Виталия Коротича»1.
Следовательно, во главе процесса либерализации СМИ в СССР стоял А.Н. Яковлев. Журнал «Огонёк» был избран в качестве всесоюзного примера такой политики. По сложившейся к тому времени традиции СМИ страны, региональные и местные газеты и журналы должны были брать пример с общесоюзных, каким и был журнал «Огонёк».
Поскольку переход к либеральной редакционной политике происходил под эгидой ЦК КПСС в лице его секретаря А.Н. Яковлева, он не подвергался сомнениям. Начало перемен было инициировано политикой демократизации и гласности, введенной в советское общественное пространство по инициативе Генерального секретаря ЦК КПСС. Он положил начало новой функции СМИ: контроля за деятельностью партийной и советской бюрократии. С этого началось формирование образа советских газет, журналов и телевидения как «четвёртой власти». Выступая на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачёв говорил: «В этой связи следует поддержать усилия средств массовой информации по развитию критики и самокритики в нашем обществе.... Более 14 миллионов новых читателей прибавилось у центральных газет и журналов, многомиллионные аудитории собирают передачи Центрального телевидения на злободневные темы»2.
И раньше, выступая на различных форумах, партийный лидер не раз подчеркивал важную роль СМИ в проведении идей «перестройки» в общественное сознание. Теперь, на данном Пленуме ЦК КПСС, он обозначил совершенно новое качество средств массовой информации, становившихся «четвёртой властью». Впервые в их советской истории со времен В.И. Ленина они оценивались не партией, а читателями. У кого больше читательская аудитория, тот и востребованней, успешней. Партийная оценка работы СМИ, как это было раньше, стала ненужной. Это и означало начало выхода газет, журналов, телевидения и других СМИ из-под влияния КПСС.
Еще одна причина, по которой 1987 г. стал показательным для оценки изменений редакционной политики центральных журналов, – это его юбилейный характер. Страна готовилась широко отпраздновать 70-летие Октябрьской революции. В номере первом «Огонька» за 1987 г. было заявлено, что «Великая Октябрьская Социалистическая революция – главное событие ХХ в. На протяжении всего 1987 г. в “Огоньке” ему будут посвящены многие материалы наших авторов и читателей»3. Сразу же за этим заявлением редакции располагалось интервью с корифеем советской исторической науки, академиком И.И. Минцем – именно он считался главным летописцем Октября в стране.
На первый взгляд, ничего не поменялось в практике журнала. Неизбежный в юбилейном году официоз подтверждался в качестве главного направления редакционной политики. Вводилась специальная рубрика, подтверждавшая, что журнал идет в русле партийного руководства своей деятельности. Тем более что И.И. Минц в опубликованном интервью подверг критическому анализу в стиле гласности недостатки в разработке истории Октября. Он обратил внимание на то, что в предыдущий период из поэмы В.К. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» были исключены строки о протесте против царственности и божественности советского лидера. Тем самым историк подчеркнул отторжение официальной властью идеи борьбы с культом личности4.
В следующем, втором номере журнала юбилейная рубрика заняла только одну страницу и содержала лишь малозначащие для такой даты материалы работника завода об отливке монумента В.И. Ленину и работника тракторного завода о первом советском тракторе «Фордзон – Пу-тиловец»5. Как говорится, большое видится на расстоянии.
При этом далее в номере расположился материал Юрия Нагибина о Б.Л. Пастернаке на трех страницах, стихи Ивана Бунина и Константина Бальмонта6. Что должна была почувствовать многомиллионная читательская аудитория журнала: невнятные материалы об Октябре – малозначительная дань официозу; Л.Б. Пастернак, И. Бунин и К. Пастернак – великие российские литераторы. Так и было на самом деле. При этом читатели не знали, что вышеперечисленные поэты и писатели были запрещены в СССР в силу их антисоветской позиции и критики Октябрьской революции, редакции же об этом было известно. Здесь явно проявилась манипулятивная технология изменения советского общественного сознания. Большинство читателей не было знакомо с творчеством Л.Б. Пастернака, И. Бунина и К. Пастернака, причинами их запрета в СССР. В сознании возникало чувство какой-то несправедливости со стороны официальной власти к выдающимся деятелям российской культуры.
В третьем номере за этот же год возник новый сюжет. В рубрике об Октябре появился большой, на разворот, материал за авторством М. Булгакова и О. Мандельштама о похоронах В.И. Ленина. Как и в предыдущем случае, ставка редакции была на слабую информированность читательской аудитории об этих литераторах. М.А. Булгаков был фактически запрещен в СССР за высмеивание советской действительности. О.Э. Мандельштам – арестован в мае 1934 г. и отправлен в ссылку за антисталинское стихотворение «Мы живём под собою не чуя страны...»1. Новизна заключалась в начале второго (после Н.С. Хрущёва) этапа критики культа личности И.В. Сталина.
В целом, анализ номеров за 1987 г. позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, рубрика в честь юбилея Октября «1917–1987» выглядела довольно уныло и невзрачно. Кроме того, в нескольких номерах она и вовсе отсутствовала. Единственный яркий и объемный материал был посвящен Ф.Ф. Раскольникову, но и то, как представляется, из-за его оппозиции И.В. Сталину и невозвращения в страну2. Во-вторых, творческая, художественная часть журнала составляла яркий контраст с официальной, политической. Большое количество талантливых, профессиональных материалов о писателях, поэтах, художниках с зрелищными иллюстрациями сильнейшим образом воздействовало на сознание читателей. Почти все литераторы были в списках запрещенных к публикациям в СССР. Этот фейерверк ранее опальных талантов был дополнен публикациями «Африканского дневника» Н.С. Гумилёва, что открывало перед читателем неизвестные страницы творческой истории страны. В-третьих, публиковались материалы, призванные убедить советских людей в том, что США не враг СССР. Этому, например, была посвящена статья главного редактора «Огонька» В.А. Коротича «Узнавание», написанная по материалам его поездки в США3.
Такая редакционная политика журнала должна была привести к ожидаемым результатам. В сознании читателей происходило отделение руководства КПСС во главе с М.С. Горбачёвым от прежнего (Брежнев – Хрущёв – Сталин). Начинал складываться его образ как сторонника справедливости, демократии, либерализма.
Все это вместе взятое расширяло советское общественное сознание. Данный феномен советской эпохи формировался под воздействием целенаправленной политики партии. Российские исследователи обратили внимание на два вектора его направленности. Один – это внешнеполитическая пропаганда партии4, второй – воздействие переломных эпох советской истории (Булыгина, 2015). Основные выводы, которые сделали исследователи феномена советского общественного сознания, сводились к признанию целевого формирования в его ядре чувств равенства, оптимизма и коллективизма. Вместе с тем, как представляется, это никак не объясняет, каким образом это сознание могло быть разрушено.
Для понимания механизмов этого процесса, прежде всего, необходимо обратить внимание не на содержание феномена, а на его форму. В этом случае мы можем прийти к восприятию его специфики, отличия от сознания других сообществ. Она формировалась внутри строго очерченных партией рамок, выход за пределы которых не допускался. Те, кто пытался выйти за границы идеологической заданности, репрессировался или изгонялся из профессионального сообщества. Своего мнения по всем вопросам истории, культуры, искусства и литературы никому иметь не допускалось. Появились запрещенные писатели, поэты, художники. Они предавались забвению, их произведения исключались из школьных программ, музейных экспозиций, репертуаров театров и т. д.
Исходя из этого, становится понятным, как можно было разрушить советское общественное сознание. Надо было расширить его за счет слома прежних строгих партийных рамок.
Рубежом в этом отношении стал 1988 г. До него процессы перестройки текли медленно, главным образом, в вербальном поле. Это становилось опасным для М.С. Горбачёва и его ближайшего окружения. Советское общественное сознание могло послужить той основой, на которой политические оппоненты могли перейти в наступление и отстранить его от власти со всеми вытекающими последствиями.
Катализатором перестройки стала книга М.С. Горбачёва «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (Горбачёв, 1988) и материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза1.
Выход книги Генерального Секретаря ЦК КПСС был обставлен в соответствии с высокими требованиями американских PR-технологий. Впервые за всю историю страны глава государства издал свое произведение вначале за рубежом. Она публиковалась в 1987 г. в 160 странах мира на 64 языках тиражом 5 млн экземпляров. Обращаясь к читателям М.С. Горбачёв признал тот факт, что книга была инспирирована за рубежом: «Так что интерес сейчас к нашей стране понятен, особенно если принять во внимание тот реальный вес, который она имеет в мировых делах. Вот учитывая всё это, я и согласился с просьбой американских издателей написать эту книгу. Мы хотим быть понятыми» (Горбачёв, 1988).
Советские люди могли прочитать ее только в 1988 г. Такая беспрецедентная очередность публикации книги советского руководителя – вначале за рубежом, а после этого в СССР – вызвала непонимание в обществе. Читательница «Огонька» из Ленинграда Н.С. Михайлова писала: «Меня возмущает, что многие советские граждане, в отличие, например, от граждан Великобритании ... лишены возможности прочесть книгу лидера своего государства»2.
Такая подача книги Генерального Секретаря ЦК КПСС преследовала, как минимум, две цели. Первая – сломать представления советского общественного сознания об изолированности СССР от остального мира; вторая – отделить в этом самом сознании М.С. Горбачёва от партии, представив самодостаточным политическим деятелем мирового уровня. Автор подчеркнул это обстоятельство словами: «Я написал эту книгу с желанием обратиться к народам напрямую. К народам СССР, США, любой страны» (Горбачёв, 1988: 3). До сих пор советские руководители делали это через соответствующие партийные документы съездов, конференций и пленумов ЦК. В советском общественном сознании такой политический ход вызвал новое осмысление роли партии. Скорее всего, она потускнела после этого.
Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС «О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической системы страны», принятая 1 июля 1988 г., отодвинула партию от руководства обществом. В ней предлагалось сделать советы всех уровней самостоятельными, независимыми от партийных органов представителями народа и государ-ства3. После этого начался процесс разрушения советской политической системы, своеобразным хребтом которой была КПСС.
Вместе с тем подобный процесс не должен был вызвать отторжения в общественном сознании, построенном на руководящей роли партии. Для более плавного перехода было необходимо вносить мягкие, постепенные коррективы в представления советских людей об этом. Журнал «Огонёк» стал проводником таких корректив. В № 45 за 1988 г. на обложке расположился броский лозунг: «Вся власть советам!». Под ним – большой портрет В.И. Ленина. Такая подача должна была донести до читателя, что современное партийное руководство действует строго в соответствии с ленинскими нормами государственного и партийного строительства. Никакого отступления от них, наоборот, возвращение к В.И. Ленину. Другое дело, что большинство советских людей не было знакомо с ленинской работой «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», написанной в 1919 г. ко II Конгрессу Коминтерна. В ней вождь описал структуру и суть советской политической системы, которая формально была беспартийной, а, по существу, руководилась партией (Ленин, 1977). Резолюция партконференции разрушала этот ленинский принцип и обрекала партию на забвение.
Требования М.С. Горбачёва ускорить все перестроечные процессы в стране стали программой редакционной политики журнала «Огонёк», поскольку на СМИ возлагалась особая миссия воздействия на советское общественное сознание. Оно формировалось десятилетиями внешне- и внутриполитической пропагандой, обратный процесс должен был строиться по этим же направлениям. Естественно, на основе смены ориентиров.
Журнал старался преподнести жизнь за рубежом и политику западных стран в ином, более благоприятном свете, по сравнению с предыдущей советской пропагандой. Надо отдать должное профессионализму и талантливости коллектива «Огонька». Одним из направлений мягкой смены векторов восприятия зарубежной жизни стала публикация материалов о выдающихся соотечественниках, эмигрировавших на Запад. В № 3 журнала был опубликован материал Л. Васильевой «Саломея, или соломинка, не согнутая веком», освещавший яркую судьбу отважной русской жен- щины – авиатора Саломеи Андрониковой1. Статья сопровождалась фотографией счастливой пожилой женщины, живущей в Лондоне. В следующем, четвертом номере рассказывалось о видной художнице, представительнице русского авангарда А. Экстер, которая в 1924 г. переехала в Па-риж2. Эти и множество других подобных материалов должны были вызывать чувство доверия читателей к западным странам.
Другим направлением ознакомления с зарубежной жизнью читателей журнала стало освещение творчества деятелей западной культуры. Публиковались фотографии запрещенных ранее в СССР битлов, роллингов и других исполнителей популярной западной музыки. Более того, четырнадцатый номер «Огонька» вышел с сообщением о прорыве в советско-американских отношениях. Под таким броским заголовком сообщалось о том, что советский поп-музыкант Б. Гребенщиков подписал контракт об издании своей пластинки в США3.
В № 36 на обложке была представлена яркая фотография, на которой американские граждане шли по улицам Вашингтона с плакатами в поддержку американо-советской дружбы и мирного сотрудничества. Важный момент: в рядах демонстрантов были представители национальных диаспор с флагами союзных республик СССР. Это опровергало утверждения официальной советской пропаганды о «перебежчиках-предателях»4.
Наконец, сильным ходом редакции журнала стали публикации интервью с известными деятелями Запада. В № 10 можно было прочитать интервью с канцлером Австрии Францем Вра-ницким и министром иностранных дел этого государства Алонсом Моком5. Двадцать второй номер разместил «Ответы Президента США Р. Рейгана на вопросы журнала “Огонёк”», что было просто немыслимо еще совсем недавно6.
Но еще больший отклик читателей сопровождал публикации материалов, связанных с разоблачением «тоталитарной» доперестроечной внутренней политики партии. Постепенно на видное место в журнале стали выходить статьи журналистов и письма читателей, направленные против культа личности И.В. Сталина. До 1985 г. подобная критика сошла на нет. Более того, вновь стали появляться фильмы о Великой Отечественной войне, где показывался образ И.В. Сталина. Очевидно, наиболее либерально настроенная читательская общественность восприняла эти факты как откат к сталинизму. В третьем номере было напечатано письмо И.В. Софрония о музее И.В. Сталина в грузинском городе Гори: «Музей ежедневно оболванивает сотни и сотни туристов ... Здесь людям умышленно преподносится урезанная правда, ложь, замешанная на национализме»7. Шестой номер напечатал очень интересные воспоминания видного советского писателя Д. Гранина «Мимолётное явление» о собрании Союза писателей СССР в г. Ленинграде в 1954 г., на котором «прорабатывали» известного литератора М. Зощенко. Там он подвергся резкому осуждению за то, что в интервью английским студентам в мае этого же года не согласился с критикой журналов «Звезда» и «Ленинград» в докладе секретаря ЦК ВКП (б) А.А. Жданова. В материале вставал образ измученного, затравленного, но не сломленного человека8.
Журнал вел рубрики о письмах читателей, где складывался массовый образ гражданина СССР, выступавшего против культа личности. В № 23 публиковалось письмо многочисленной группы видных ученых – членов общества «Мемориал». Они буквально требовали сооружения мемориала жертвам сталинских репрессий9. Вскоре такие монументы стали появляться по всей стране.
Письма читателей были выигрышным ходом редакции журнала. Они вызывали доверие, сочувствие и многочисленные отклики. Издание показывало всем: оно опирается на мнение народа и помогает ему разобраться в хитросплетениях современной политики. На само деле это была тонкая, продуманная манипуляция. Редакция выбирала и моделировала именно те ситуации, которые отвечали ее политике в конкретном промежутке времени. Темы дискуссий задавались ею же. Люди активно подключались, полагая, что выражают собственное мнение. Однако оно было подготовлено исподволь, а читатели «ставились» на нужные «рельсы».
В 1988 г. продолжились публикации материалов запрещенных в СССР авторов, художников, политиков: Н. Заболоцкого, А.В. Чаянова, Н. Осинского, Б.А. Дьякова и других10. Эти люди формировали в общественном сознании образ невинно пострадавших, выдающихся соотечественников и через него воспитывали недоверие к партии.
Самыми сильными материалами, повлиявшими на либерализацию советского общественного сознания, стали материалы и сюжеты о «неудобных» для власти людей. Это были те граждане, которые интуитивно, в силу своего характера были инакомыслящими, сопротивлявшимися советской идеологии. В № 12 публиковался потрясающий материал о латвийском скульпторе – неформале Орвидасе Казисе. Назывался он «В саду жизни». Его творчество было прямо противоположным общепринятому в СССР социалистическому реализму. Оно настолько отличалось от последнего, что вызывало неприятие органов власти района и республики. Но автор не сдавался и творил по душе, а не по заказу власти. Завершалась публикация следующим эпизодом: «А это, – сказал Казис, – Качели над водой. В воде отражается небо. И, кажется, качаешься в облаках»1. Безусловно, в глазах читателей журнала подобные яркие личности виделись жертвами произвола советской власти. Таких примеров в журнале было предостаточно.
Интересным движением редакционной политики в сторону либерализации общественного сознания выступило возрождение религиозности. Немало материалов, текстов и фотографий посвящались церковной жизни. В стране, где официальной партийной идеологией считался атеизм, обращение к религиозной жизни стало еще одним фронтом против партии.
Своеобразный итог столь многогранной деятельности журнала по либерализации общественного мнения в 1987–1988 гг. стал материал № 49 за 1988 г. под заголовком «Какого цвета Белов?». В нем говорилось: «Выступая 23 ноября по Центральному телевидению, писатель В. Белов признал, что прежний, «“старый” “Огонёк” он ощущает сегодня “красным”». «Мы очень рады, что даже раскритикованный нынешним, “новым” “Огоньком” за свою неудачную последнюю книгу писатель признаёт, что прежнему журналу было чего стыдиться и надо бы покраснеть. Одновременно сообщаем, что на 15 ноября ... на “Огонёк” подписалось два миллиона восемьсот тысяч человек. Это раз в десять больше, чем в те годы, за которые сегодня ... стоило бы покраснеть»2.
Если раньше книги и другие печатные издания подвергались критике со стороны партии, то теперь она звучала со страниц журнала «Огонёк» и, как видим, воспринималась не менее серьезно, чем критика партийная. Журнал становился реальной четвертой властью, даже более авторитетной, чем партийная, которая начинала слабеть. Немалая заслуга в этом принадлежала коллективу журнала «Огонёк».
Список литературы История начала становления «Четвёртой власти» в СССР на примере журнала «Огонёк» в 1987–1988 гг.
- Барабанов М.В. Партии и много партийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития. М., 2011. 455 с.
- Булыгина Т.А. Политические перемены и общественное сознание в советском обществе: по страницам партийной печати // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. С. 1-7. EDN: UHXFLX
- Горбачёв М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988. 270 с.
- Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме // Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1977. Т. 41. С. 1-104.
- Ленин В.И. С чего начать? // Полное собрание сочинений: в 55 т. Т. 5. М., 1967. С. 1-13.
- Никонова С.И. СМИ в идеологической системе последних десятилетий советской власти // Фундаментальные исследования. 2014. № 6-2. С. 390-393. EDN: SWOCNP