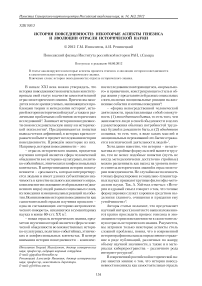История повседневности: некоторые аспекты генезиса и эволюции отрасли исторической науки
Автор: Г.М. Ипполитов, А.И. Репинецкий
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 3-1 т.14, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются некоторые аспекты процесса генезиса и эволюции истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания.
История повседневности, отрасль исторического знания
Короткий адрес: https://sciup.org/148205603
IDR: 148205603 | УДК: 930.2
Текст научной статьи История повседневности: некоторые аспекты генезиса и эволюции отрасли исторической науки
ное исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения6;
– «форма непосредственной человеческой деятельности, представляющая собой совокупность (1) повседневного бытия , то есть того, чем занимаются люди в своей обыденности в целях удовлетворения обычных потребностей трудовых будней и домашнего быта, и (2) обыденного сознания , то есть того, в виде каких мыслей и эмоциональных переживаний это бытие отражается в психической деятельности людей»7.
Хотя давно известно, что история – не математика и стройные формулы в ней вывести трудно, тем не менее подобные попытки (пусть не всегда методологически достаточно стройные) можно расценивать как выход на уровень нового синтеза исторических знаний в отрасли истории повседневности. Не случайно же полезность точных формулировок в социально-гуманитарных науках признают крупные философы-методологи науки. Так, А. Уайтхед отмечал: «История и здравый смысл говорит о том, что точные формулировки служат хорошим средством выделения главного, очищения и придания ему устойчивости»8.
Авторы статьи полагают, что представляет научный интерес (в контексте вышеизложенного) кратко проследить процесс генезиса и эволюции истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания. Разумеется, мы затронем только некоторые аспекты столь сложной проблемы, помня, что в современной историографии она нашла определенное отражение в ряде публикаций, различных по жанру, объему научной значимости, а также и в материалах киберпространства – различного рода интернет-ресурсов9.
В современной российской исторической науке имеется мнение о том, что история повседневности возникла как самостоятельная отрасль в исторической науке относительно недавно, значительно позже, чем другие направления в исследовании исторического прошлого. В XX в. в ее рамках происходило объединение различных методологических концепций, в число которых входили методология и исследовательские подходы, принятые в других, смежных с историей гуманитарных дисциплинах10. В принципе с такой позицией можно, конечно, спорить, но стоит в конечном итоге, видимо, согласиться.
Но если посмотреть на процесс генезиса истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания с точки зрения внедрения в историческую науку междисциплинарного подхода к познанию исторического прошлого, то стоит признать следующее: хронологические рамки генезиса истории повседневности можно смело расширять до XIX века. Так, в работах Д.Э. Леви-Альвареса отмечалось то, что историк обязан ставить так вопросы, чтобы «находить желаемые ответы… и иметь достаточные сведения в трех науках, служащих основанием истории: в географии, генеалогии и хроно-логии»11. Иными словами, ученый выступает сторонником именно междисциплинарного подхода к познанию исторического прошлого. Он полагал, что наряду с собственно историческими свидетельствами и сведениями необходимо анализировать прошлое с помощью методологического инструментария, принятого в других науках, в частности в географии, хронологии и т. д. Леви-Альварес считал, что учет географических и хронологических особенностей того или иного периода предоставит историку возможность с наибольшей вероятностью реконструировать историческое прошлое, вплотную приблизиться к тем событиям, которые совершались в нем, понять их внутреннюю суть и направленность. Историк (по Леви-Альваресу) должен изыскивать все, что может «открыть по этому предмету новую и верную дорогу»12. Однако в XIX веке еще не существовало понятия «история повседневности». Понятно, что здесь не имелось никаких теоретических обоснований.
Можно утверждать, что методологическую основу для исследований в ключе истории повседневности создал крупный немецкий философ Э. Гуссерль, так как именно он заложил теоретические основы в познании сущностных оснований человеческой деятельности в окружающей действительности, а следовательно, и в истории влияния личностных факторов на внешний мир и, в свою очередь, влияния внешних условий окружающей реальности на существование отдельной личности, ее деятельность и стремления, по-лагания себя в мире. Рассматривая связь времен в контексте существования человеческой лично- сти, философ выделял понятие жизненного мира человека, того мира, который его непосредственно окружает, в рамках которого он существует и с которым он связан на протяжении всей своей жизни различными нитями, видимыми и невидимыми. Этот внешний мир и составляет основу повседневного человеческого существования, ее внешнюю часть, в пределах которой непосредственно протекает человеческое бытие. «Жизненный мир – это мир людей и предметов, непосредственно окружающих меня в течение всей моей жизни»13, – утверждал Гуссерль. Мыслитель в конечном итоге в рамках философской школы феноменологии пробудил интерес к человеку, его внутреннему миру, процессу конструирования внешней реальности его сознанием, к характеру восприятия и полагания исторического времени, специфики определения человеком собственной бытийной судьбы в нем.
Важное место в формировании теоретикометодологической основы повседневности заняли работы П. Бергера и Т. Лукмана. Они вступили на путь теоретического осмысления внутреннего мира человеческой личности и его связи с окружающей действительностью, в которой человек одновременно и существует, и творит ее, конструируя ее базовые черты в своем собственном сознании и дополняя эти интуитивные построения структурами внешнего мира, воспринимаемого не только разумом, но и постигаемого чувственными образами сознания. Человек, как считали П. Бергер и Т. Лукман, в соответствии со своей концепцией «социального конструирования» не только статично воспринимает события и явления окружающего мира, но и пытается определить для себя их суть, составить собственное представление о них. Определяя для себя сущность происходящих явлений и пытаясь проникнуть в их внутренний смысл, человек раскрывает их для себя и определяет свое место в них. В дальнейшем все события, происходящие вокруг него, он воспринимает в контексте уже полученного опыта раскрытия явлений окружающей реальности, становится их непосредственным участником иногда через восприятие, а иногда и через деятельность, направленную на совершение общественных изменений. Самому же внешнему «институциональному» миру, полагают они, «требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и «оправдания»14. Только после их получения внешний мир, а следовательно, тот или иной общественный строй и его институты получают санкцию не формальных законов и правовых норм, а человеческого сознания.
Целью исследований П. Бергера и Т. Лукма-на стал «анализ реальности повседневной жиз- ни, знания, определяющего поведение в повседневной жизни»15. Ученые посчитали, что смена событий и явлений оказывает определяющее влияние на установленный ритм повседневной жизни, но не на будущее человека и тем более не на его прошлое, а на его настоящую жизнь в конкретный отрезок исторического времени, ее потребности, специфику, цели и задачи. Повседневная жизнь человека в контексте повторяющихся рутинных действий и обязанностей в их понимании проходит «здесь и сейчас, она определяет современную историческую реальность. Но вместе с тем авторы отмечают, что «реальность повседневной жизни... охватывает и те феномены, которые не даны здесь-и-сейчас»16.
Следует подчеркнуть, что на процесс генезиса и эволюции истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания оказала самое непосредственное влияние знаменитая французская школа «Анналов» во главе с Марком Блоком и Люсьеном Февром. Именно они впервые сформулировали базовые характеристики истории повседневности как «науки о людях»17. Именно этими учеными широко была озвучена сама концепция истории повседневности, теоретические основы которой были заложены значительно раньше, как «науки о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах и явлениях»18.
Школа «Анналов» и особенно молодой современник М. Блока и Л. Февра – Ф. Бродель понимали прошлое как медленное чередование периодов «большой длительности» (long dure), в которые была включена и повседневно-бытовая составляющая. История повседневности выступала в трудах этих историков частью макроконтекста жизни прошлого. Формирование подобной концепции в исследовании исторического прошлого происходило на волне разочарования в традиционных методах и теоретическом наследии исторической науки, связанных с позитивистским подходом к анализу исторического процесса, бывшим порождением Эпохи Просвещения с ее преобладанием естественнонаучного, рационалистического знания.
К середине XX в. этот подход, несомненно, сыгравший важную роль в становлении истории как научной дисциплины, в значительной мере исчерпал себя. Потребовались новые методы и новые теоретические подходы, призванные дать новый импульс исследованию исторического прошлого человечества и вывести историю из затяжного концептуального кризиса. В значительной мере таким выходом стала концепция истории повседневности, в общих чертах сформулированная М. Блоком и Л. Февром, которая с течением времени получила широкое распространение в кругах историков и значительно обновила методологический аппарат и инструментарий исторической науки. Как отмечал М. Блок: «Позитивизм тщетно пытался устранить из науки идею причинности»19. История повседневности, напротив, ставила ее во главу угла, пытаясь исследовать побудительные мотивы человеческой деятельности и поведения в реальной действительности, их связь с образами человеческого сознания, представлениями личности в ту или иную историческую эпоху. Это исследование должно было происходить на основе междисциплинарного научного подхода с использованием уже сформировавшегося принципа синтеза гуманитарных наук, что значительно освежило историческую науку и открыло перед историками новые исследовательские горизонты. Только синтез гуманитарного знания, считали основатели школы «Анналов», предоставит историкам ту необходимую методологическую основу, в которой так нуждается наука истории.
«Обновить» историю только с помощью «чисто» исторических методов, считали они, невозможно и этот путь ведет в теоретический и методологический тупик. М. Блок писал: «Чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины – пусть даже самые специальные с виду – необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые одновременно проявляются в других группах наук»20. По мере научной деятельности школы «Анналов» и ее последователей в разных странах речь уже пошла о создании некой всеобщей междисциплинарной гуманитарной науки, которая бы синтезировала в себе все знания о человеке и могла бы создать своего рода новую науку о человеке, в которой его прошлое играло бы важную структурообразующую роль. Причем последователи школы «Анналов» в значительной мере абсолютизировали междисциплинарный подход к исследованию исторического прошлого. Фернан Бродель даже предполагал, что на его основе история способна включить в себя все отрасли знания и стать первой своего рода гуманитарной «сверхнаукой», отдельными составляющими которой и станут другие отрасли и ответвления гуманитарного знания.
Создание такой «сверхнауки», в его представлении, должно было способствовать значительно более полной реконструкции исторического прошлого и дать объективную картину повседневной жизни человека предшествующих эпох. Ф. Бродель отмечал: «Для меня не только различия науки о человеке рассматривают историю, но и она в свою очередь в силу достаточно логичной ответной реакции «расшатывает» их. В самом деле, лишь история способна объеди- нить все науки о человеке... пометить некую междисциплинарную общественную науку»21. Причем сама история повседневности в этом контексте понималась как исключительно важное направление в анализе прошлого, своего рода ключ к постижению истории вообще и науки о человеке в частности. Ф. Броделем она понималась как «наблюдения в «чистом виде», способные предоставить объективную картину давно минувших эпох, наблюдение в первую очередь за различными сторонами повседневной человеческой жизни: за представлениями человека, его мыслями, восприятием окружающей реальности, бытом, впечатлениями, эмоциональными состояниями, времяпрепровождением и т.д. Характерной чертой реконструкции повседневной истории, согласно Ф. Броделю, на первых порах было предпочтение, отдаваемое изучению возможно более массовых совокупностей явлений, выбор больших временных длительностей для обнаружения глобальных социальных трансформаций. Много внимания Ф. Броделем уделялось и тому, как официальная культура воспринималась низами, в какие формы трансформировались идеологические конструкты, попадая в «обычный» мир.
Большое влияние на конституирование истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания оказал видный российский ученый А.Я. Гуревич. Он считал наиболее перспективным путем развития исторического знания путь соединения методов исторического познания с теоретическим и методологическим аппаратом других гуманитарных наук. Ученый писал, что «новая историческая наука» предприняла целенаправленные усилия по преодолению цеховой обособленности истории от соседних дисциплин»22. Гуревич исходил из того, что иного пути для преодоления методологического кризиса истории как науки не существует и только в русле соединения и синтеза всего гуманитарного знания возможен прорыв в изучении исторического прошлого человечества. Причем в изучении повседневности другой путь невозможен в принципе, и хотят они того или нет, историки, которые изучают этот аспект человеческого прошлого, они неизбежно придут к междисциплинарному синтезу. Гуревич отмечал: «Представители этого направления подходят к историческому синтезу»23. Ученый высказал оригинальную мысль: с помощью новой методологии как бы заново будет воссоздано сознание человека давно ушедших эпох, реконструирован сам человек прошлого и тот исторический фон, который сопровождал его жизнь с момента ее зарождения до самой смерти. «Какова была исто- рия «на самом деле» нам знать не дано, реконструируя историю, мы ее конструируем»24. Важное значение в воссоздании объективной картины прошлого Гуревич придавал реконструкции образа мыслей, ментальностей, представлений сознания человека той или иной исторической эпохи.
Представляется принципиальным отдельно подчеркнуть то, что ученый полагал следующее: в постижении и исследовании прошлого нуждается не только человек определенной эпохи, но и она сама как особый неповторимый социокультурный феномен. Только во взаимосвязи этих двух важнейших составляющих исторического процесса – человека и эпохи, во всем их взаимодействии и взаимовлиянии, рассматривая многочисленные контексты существования личности в истории, можно воссоздать картину прошлого во всей ее объективности и многогранности, сохранить в неприкосновенности его дыхание, различные его оттенки и полутона. Поэтому действительно серьезной опасностью, подстерегающей историка на его пути, Гуревич считал опасность «игнорирования более широкого социально-культурного контек-ста»25. В таком случае история жизни и деятельности одной личности заслонит для нас суть исторического времени, в котором она жила. Без выявления социокультурного контекста времени и исторического пространства, в котором жил человек, утверждал Гуревич, все сведения об истории его жизни и деятельности будут неполными, отрывочными и фрагментарными и истинная суть исторического процесса ускользнет от нас и останется непонятой.
Характерно и то, что во второй половине XX в. последователи школы «Анналов» несколько изменили свой взгляд на исследование исторического прошлого, под влиянием своих предшественников они все чаще стали говорить в своих работах не о междисциплинарном подходе к исследованию прошлого, а о тотальном подходе к анализу прошедших исторических эпох. Само название в этом случае говорило за себя. Тотальность предполагала всеохватность и всеобщность исторического знания всей совокупности исторических явлений, факторов, общественных настроений, представлений и т. д. Эта всеобщность и должна была стать средством, с помощью которого можно было избежать ошибок в интерпретации исторических фактов и явлений. Только всесторонний анализ с различных методологических позиций дает желаемый исследовательский эффект. Тотальность подразумевала исследование повседневной жизни человека во всех ее проявлениях, от самых «высоких» уровней взаимодействия социальных сил и институтов до самого «низкого» уровня повседневной жизни и быта. Жак Ле Гофф призывал следовать именно такой всеобщей реконструкции истории, охватывающей все стороны человеческого бытия, именно это в его понимании означало следование «концепции тотальной истории»26.
О содержании данной концепции, о том, что непосредственно входит в такого рода исследовательский дискурс, сам Ле Гофф говорил следующее: «концепция тотальной истории включая в себя… материальную культуру – технику, экономику, повседневную жизнь (ибо люди в процессе истории строят жилища, питаются, одеваются и вообще функционируют)»27. Но принцип тотальности, применяемый к историческому прошлому, не предполагает равенство различных аспектов жизнедеятельности человека. Несмотря на то, что историком изучаются все составляющие его бытия, в том числе экономическая, институциональная и другие, преимущество все же отдается социальной сфере, сфере личностного бытия, взаимоотношений человека и общества, человека и его социального окружения, человека и его близких, т. е. всему тому, что составляет тонкую паутину социальных связей, характеризует жизнедеятельность социума и, собственно, делает человека человеком. Ж. Ле Гофф утверждает, что тотальная история должна опираться на социальную историю, которая и есть «подлинное содержание истории, как ее справедливо понимал Марк Блок». Главным же объектом исторического познания в этом случае выступают «внутренние связи между реальными социальными структурами и их функционирование»28. Постепенно под влиянием «школы» микроисториков, которая получила широкое распространение в 80-90-е гг. XX в., в особенности в Германии и Италии, Ж. Ле Гофф и другие представители третьего поколения школы «Анналов», в частности Р. Шартье и некоторые другие, предприняли ряд попыток вытеснить или ограничить «историю менталитета» в изучении повседневности, а также отойти от концепции «неподвижной истории», характерной для Ф. Броделя.
Важность «микроисторического» подхода в исследовании повседневности определялась тем, что он позволил принять во внимание множество частных судеб. История повседневности стала своего рода реконструкцией «жизни незамечательных людей», которая не менее важна исследователю прошлого, чем жизнь людей «замечательных». Кроме того, значимость «микроистории» для повседневности состояла в апробации методик изучения несостоявшихся возможностей. Описываемый подход определил новое место источников личного происхождения, помогая пониманию степени свободы индивида в заданных историко-политических, хронологических, этнокультурных и иных обстоя- тельствах. Именно «микроисторики» поставили задачей своего исследования изучение вопроса о способах жизни и экстремального выживания в условиях войн, революций, террора, голода. Конечно, и историки броделевской школы обращались к этим сюжетам, однако именно «микроисторики», изучавшие повседневность XX столетия, озаботились анализом скорее переходных и переломных эпох, нежели периодов относительной стабильности и стагнации.
Представляет определенный интерес «статичная» концепция Петера Боршейда и его последователей (ФРГ). Ее суть – заострить внимание на «повседневной деятельности», в которой преобладает элемент «повторяемости», – предполагала четкое разделение между сферами повседневной и неповседневной жизни. При этом устанавливалась своеобразная иерархия, в которой повседневная жизнь рассматривалась как «подготовительная стадия» для изучения неповседневных событий. При этом подчеркивалась преемственность с прежними представлениями социальной истории, где главное внимание уделялось «структуре» общественных отношений.
Тогда как «динамический» подход увязывал противоречивый характер радикальных исторических изменений «с производством и воспроизводством действительной жизни». То есть речь шла не только о будничной борьбе за выживание: на первый план выдвигалась реконструкция социальной практики людей29. При этом акцент делается на их сопротивление авторитетам или доминирующим историческим процессам. А. Людтке в 1990-е годы даже ввел понятие «своенравие», под которым подразумевал своеобразную реакцию на идущую сверху политику и специфическое толкование индивидуумом окружающего мира. Своенравие может поддерживать власть, а может ее ограничивать. Оно стоит между «властью» и «сопротивлением», которые в истории повседневности долго рассматривались как взаимоисключающие полюса30.
Историю повседневности сегодня можно рассматривать как ответ на кризис объяснительных моделей «большой» политической истории, и прежде всего истории элит и структур. Не случайно американский социолог и историк Ч. Тилли в середине 1980-х годов призвал к инкорпорации повседневной жизни «в бурные воды исторического процесса»31.
Говоря о процессе генезиса и эволюции истории повседневности в самостоятельную отрасль исторического знания, будет правильным подчеркнуть то, что история повседневности существенно раздвигает источниковую базу исследований за счет синтеза работы с различными группами источников: документами местных архивов и индивидуальными биографиями, аудиовизуальными средствами и этнографическими материалами, материалами «устной истории», поэтическим и песенным фольклором, даже таким специфическим источником, как слухи. Всё это помогает наиболее полно реконструировать историческую картину прошлого. При таком подходе задача исследователя состоит в том, чтобы почувствовать в истории повседневности то, что выражает дух времени. Необходимо создать сплав судьбы человека и времени, в котором он жил, чтобы его поступки и поведение получили историческую оценку. В силу этого основой истории повседневности манифестируются производство и воспроизводство действительной жизни, где участники не только объекты, но и субъекты истории32.
Нельзя обойти молчанием и тот факт, что сегодня в истории повседневности характерны терминологическая эклектика и методологический плюрализм. Так, существенный разброс в трактовке понятия «повседневность» отразила прошедшая в 1994 г. в Петербурге Международная конференция по истории советской повсед-невности33. М.М. Кром сделал заключение об отсутствии универсального и пригодного на все случаи жизни понятия «повседневность», в силу чего определил «оповседневнивание» истории как исследовательский инструмент34. Не следует и забывать, размышляя об истории повседневности, что повседневность – ежедневное существование со всем, что окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном и языковой лексикой. Но эта самоочевидность повседневности делает ее особенно неуловимой. В то же время изучение истории повседневности дает возможность понять культурную ментальность, которая сохраняется на длинных исторических промежутках, разобраться в том, как теории претворяются в практику, какова этика повседневного поведения, которая состоит из незначительных, но решающих индивидуальных решений и выборов. Повседневность позволяет осмыслить не только правила и запреты данного общества, но и способы уклонения и отступления от них35.
Следует подчеркнуть и то, что в развитии современной отечественной истории повседневности прослеживается несколько взаимосвязанных процессов:
– существенное приращение источниковой базы исследований36;
– при сохранении традиционного интереса к методологическому инструментарию микроистории и исторической антропологии – более активное использование методологического аппарата социальной психологии в целях дальнейшей ан-тропологизации истории повседневности37;
– попытки на региональном материале построить типичные картины, характеризующие повседневность и уровень жизни населения всей страны;
– стремление выработать или уточнить понятийный аппарат истории повседневности38.
Как видно, история повседневности и сегодня продолжает свою дальнейшую эволюцию в самостоятельную отрасль исторического знания. И здесь большое дискуссионное поле, на котором исследователей ждет множество открытий.