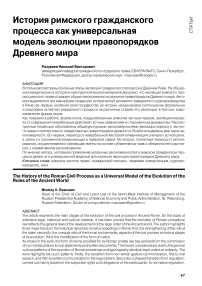История римского гражданского процесса как универсальная модель эволюции правопорядков древнего мира
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные этапы эволюции гражданского процесса в Древнем Риме. На обширном юридическом и историко-культурологическом материале доказано, что эволюция римского процессуального права отражает общие закономерности развития правопорядков Древнего мира. Автором выделяются три важнейшие тенденции исторической динамики гражданского судопроизводства в Риме: во-первых, усиление роли государства; во-вторых, неодинаковое соотношение формальных и смысловых аспектов гражданского процесса на различных стадиях его эволюции; в-третьих, видоизменение формы исков.Как показано в работе, форма исков, предусмотренная римским частным правом, эволюционировала от совершения невербальных действий к устным заявлениям и к письменным документам. Рассмотренные тенденции обусловлены общекультурными закономерностями эволюции римского частного права и типологически тождественных правопорядков древности. В работе выделены две такие закономерности. Во-первых, переход от невербальной жестовой коммуникации сначала к устной речи, а затем и к письменной коммуникации в правовой сфере. Во-вторых, поэтапный переход от регулирования, осуществляемого преимущественно на основе субъективных прав и обязанностей участников, к нормативному регулированию.По мнению автора, наглядное проявление указанных закономерностей в римском гражданском процесс е делает его универсальной моделью для изучения эволюции правопорядков Древнего мира.
Римское частное право, гражданский процесс, правовая коммуникация, судопроизводство, иски
Короткий адрес: https://sciup.org/14121168
IDR: 14121168
Текст научной статьи История римского гражданского процесса как универсальная модель эволюции правопорядков древнего мира
Настоящая статья посвящена рассмотрению этапов истории римского гражданского процесса с целью выявления универсальных закономерностей, которыми определяется эволюция права. Актуальность данного исследования имеет два аспекта — исторический и общетеоретический. Римское частное право, являясь наиболее известной и хорошо освещенной в источниках системой, ярко отражающей специфику пра-вопорядков Древнего мира, получило всестороннее раскрытие в работах ученых, видящих в нем ключ к познанию процессов, повлиявших на становление правовых систем современности.
Известно, что центральное место в римском частном праве занимали судебные процедуры. Указанное обстоятельство, обусловленное характерными особенностями античного правового менталитета, для которого само существование субъективных прав, как правило, было неотделимо от средств их юридической защиты, делало нерелевантной присущую современным правопорядкам дихотомию материального и процессуального права1. Представляется, что именно этим обусловлено повышенное внимание к процессуальным формам как римских юристов, так и позднейших авторов, рассматривавших систему римского частного права сквозь призму судебных процедур. Более того, именно особенности судебной защиты субъективных гражданских прав лежали в основе доктринального конструирования системы. Так, одним из критериев дуализма ius civile и ius honorarium в материально-правовом (субстанциональном) плане выступала предметная градация цивильных и преторских исков, позволившая Джузеппе Гроссо утверждать, что в Древнем Риме «материальное право возникло как проявление процессуальных средств, прямо обещанных и предоставленных претором»2. На наш взгляд, процессуальная ориентированность римского частного права не была его уникальной чертой, но характеризовала в той или иной мере все правопорядки Древнего мира.
Всестороннее освещение в источниках этапов развития римского гражданского процесса, с момента зарождения и вплоть до позднейших форм, делает его удобной моделью для выявления общих черт, присущих судебным системам, стоящим на той же ступени эволюции, причем не только в статических проявлениях, но и, что особенно важно, в динамике. Изучение генезиса и основных тенденций развития процессуального права в Риме могут способствовать реконструкции судебных процедур в тех древних обществах, относительно которых имеется недостаточно материальных свидетельств для развернутых и эмпирически обоснованных выводов.
Речь идет, прежде всего, о правопорядках, оказавших, подобно древнегреческому праву, воздействие на формирование римского частного права, в том числе права процессуального, и при этом подвергшихся воздействию с его стороны. Это, разумеется, отнюдь не предполагает нивелирование отмечавшихся в литературе различий древнегреческого и римского права3, чье качественное своеобразие делает невозможными прямые аналогии и параллели. Уместнее постараться с большой, разумеется, долей осторожности выделить универсальные признаки, присущие соответствующим правопорядкам, принадлежавшим, при всей несхожести в конкретных деталях, к одному культурно-историческому типу.
В свою очередь, типологический анализ, проводимый на фактическом материале, предоставляемом римским правом и другими правопорядками Древнего мира, призван служить решению более общей задачи, а именно познанию законов развития права в широкой диахронной ретроспективе, на что в конечном счете направлены усилия юриспруденции, культурной антропологии, исторической науки и других гуманитарных дисциплин, не ограничивающих свое предметное поле фактографическим описанием, но пытающихся прийти к общезначимым выводам. Недаром авторитетный знаток римского права С. А. Муромцев именно в познании универсальных законов усматривал основную цель юридической науки4, что получило поддержку и со стороны ряда современных авторов, по крайней мере тех, кто не замыкается в рамках чистой догматики5.
Познавательная релевантность и эвристическая ценность генерализующего подхода, оперирующего универсалиями, в той или иной мере присущими различным культурам и соответствующим им пра-вопорядкам, вызывает сомнение лишь на самый поверхностный взгляд, не видящий за деревьями леса.
Между тем его значимость не отрицали даже крайне осторожно относящиеся к обобщениям авторы, такие как, например, американский антрополог Ф. Боас, по словам которого, «критическая оценка того, что является общезначимым для всего человечества, и отграничение от того, что специфично для отдельных культурных типов, становится предметом величайшей важности при изучении общества»6. Помимо всего прочего, исследование эволюционной динамики права позволяет сформулировать ряд концептуальных положений, касающихся понятия и сущности последнего, делая эволюционный подход продуктивной методологической основой не только в историческом, но и в теоретико-правовом плане.
СТАТЬИ
Будучи компонентом культуры, право, подобно иным культурным феноменам, выполняет коммуникативную функцию, состоящую в обмене информацией, посредством которого конструируются социальные институты. Важнейшая особенность правовой коммуникации состоит в присущем ей регулятивном воздействии на поведение индивидов7. При этом средствами передачи информации в праве выступают нормы, имеющие семиотическую природу. Было бы, однако, неверно сводить все многообразие семиотических средств правовой коммуникации, как это иной раз делается, исключительно к нормативной составляющей8.
В диахронной ретроспективе не меньшую, если не более важную, роль играли субъективные права и обязанности участников правового общения. В условиях неразвитости нормативного измерения римского права обеспечение беспрепятственной реализации субъективных прав и их судебная защита становились приоритетными задачами правопорядка, от решения которых зависели его устойчивость и жизнеспособность. Представляется, что римское частное право с его синкретизмом материально- и процессуально-правовых элементов служит хорошим примером правопорядка, в котором поведение индивидов эффективно регулировалось с помощью принадлежащих им субъективных прав и обязанностей даже в отсутствие общих норм.
2. Проблема самоуправства в правопорядках Древнего мира
Одной из наиболее примечательных черт римского частного права являлось наличие высокоразвитых форм процессуальной защиты прав, во многом заложивших фундамент современного гражданского процесса. Более того, в ситуации, когда основным, если не единственным, средством конструирования правопорядка выступали субъективные права и обязанности, особую проблему составляло придание им релевантности для участников оборота, исходно не участвовавших в правоотношениях, в рамках которых возникли эти права и обязанности.
Неизбежно проявляющиеся при этом конфликты интерпретаций смыслового контекста обоюдных правопритязаний, чреватые отрицанием права как такового, создавали потребность в защите субъективных прав, действенных для всех случаев его потенциального нарушения. В современном правопорядке основной формой защиты прав выступает судебная защита (ст. 11 ГК РФ), наряду с которой применяются защита в административном порядке и самозащита (ст. 14 ГК)9. В юридической литературе широко распространено мнение, в соответствии с которым судебная деятельность, не только в наши дни, но и на ранних этапах правовой эволюции, является исключительной прерогативой государства, в связи с чем возникла необходимость рассмотреть способы защиты прав, предшествовавшие их судебной защите. Еще пандектистами была выдвинута гипотеза «самоуправства» как исторически первичной ситуации защиты права10, в дальнейшем последовательно развивавшаяся Р. Йерингом11. Такая наивно-эволюционистская установка, очевидно, не учитывала сложный характер человеческого поведения как самоорганизующейся системы, содержащей в себе смысловую основу, соотнесенную с субъективными смыслами, выражаемыми поведением других индивидов.
В основе согласования смыслов, мотивирующих поведенческие акты субъектов, в том числе и специфически правовых смыслов (свободы, справедливости, формального равенства и т. п.), лежит, говоря словами А. В. Полякова, взаимное признание индивидов в качестве равноценных участников правового общения, юридически релевантные притязания каждого из которых приобретают обязывающую силу для других субъектов12. Необходимой предпосылкой такого взаимного признания выступает разделяемая всеми участниками правовой коммуникации презумпция разумности поведения других лиц, из которой проистекают аксиологические характеристики последнего.
СТАТЬИ
В свете подобного допущения всякий конфликт, порожденный столкновением противоположных интересов, подлежит устранению с применением правовых процедур, к числу которых относится судебная (исковая) защита прав. Правовая регуляция человеческого поведения с присущими ей инструментами согласования интересов и разрешения поведенческих конфликтов может рассматриваться в качестве своеобразного продолжения — на более высоком эволюционном уровне — механизмов самоорганизации и достижения динамического гомеостаза, действующих в природных, в том числе биологических, системах13.
К сожалению, некоторые современные ученые, в той или иной мере воспринявшие учение о самоуправстве как первичном способе реализации и защиты права, склонны подчас делать на этом основании выводы, не подтвержденные историческим материалом14. Речь идет, в частности, о неразвитости средств правового регулирования в раннегосударственных сообществах, подобных древнегреческим полисам эпохи «темных веков» (XI–VIII вв. до н. э.) или Риму времен правления первых царей. Между тем кажущаяся примитивность отнюдь не свидетельствовала о неэффективности этих средств, вполне соответствовавших исторической традиции, социальной организации и уровню культурного развития сообщества. Более того, в памятниках сохранились указания на то, что уже архаические правопорядки, в том числе правопорядок Раннего Рима, обладали сформировавшимися судебными процедурами защиты субъективных прав и разрешения возникавших противоречий15. Это дает основание предположить, что истоки судебных процедур следует искать в догосударственной организации, обладавшей механизмами разрешения конфликтов и достижения социального равновесия, получившими свое развитие в раннегосударственных сообществах Древнего мира16.
Хрестоматийным примером тому служит описанная Гомером сцена суда, запечатленная на щите Ахилла, где в народном собрании (экклесии) заседатели разбирают гражданскую тяжбу, вынося решение на основе прений сторон (Il. XVIII, 497–508)17. Едва ли имеются достаточные основания видеть в этом красноречивом эпизоде позднейшую вставку, руководствуясь априорными представлениями об отсутствии в гомеровскую эпоху развитой системы судопроизводства. Гораздо уместнее предположить, что такие процедуры спонтанно формировались в раннегосударственных или даже в догосударственных сообществах, являясь элементами системы общественного самоуправления, лишь впоследствии получившими государственновластное оформление.
Более того, механизмы судебного урегулирования частных споров, сложившиеся в позднеродовой общине, были практически без изменений заимствованы раннегосударственным правопорядком, о чем свидетельствует древнейший процесс legis actio sacramentum in rem18. Не случайно даже те исследователи, которые видят в институтах кровной мести универсальную альтернативу судопроизводства, имевшую место на начальной стадии эволюции правопорядка, не отрицают, что на этой гипотетически реконструируемой стадии кровная месть и самочинная расправа с нарушителем практиковались не в любых случаях, а лишь тогда, когда примирительные процедуры и судебное разбирательство либо не применялись19, либо не достигали желаемого результата20.
По свидетельствам источников, так обстояло дело в ранней римской общине, где обычай кровной мести сохранял свое значение вплоть до начала Республики. Самыми известными примерами его проявления, описанными античными авторами, было убийство братьев Куриациев в поединке с Публием Горацием, впоследствии переосмысленное как военный подвиг (Liv. I. 24–26; Dionys. III. 2–31; Flor. Epit. I. 1; Lyd. de mens. 4. 1), убийство Ромула (Plut. Rom. 27. 5), смерть Тулла Гостилия при загадочных обстоятельствах (Liv. I. 31), гибель царей Тарквиния Приска и Сервия Туллия (Liv. I. 42; Dionys. IV. 40) и, наконец, изгнание из Рима представителей рода Тарквиниев. Примечательно, однако, что все перечисленные случаи в той или иной мере имели своими причинами борьбу за власть в общине либо военные и социальные конфликты, не затрагивая частную сферу, где достаточно рано рассмотрение споров стало осуществляться в судебном порядке.
Археологическим доказательством сказанному является судопроизводство в Древнем Египте, трансформировавшееся одновременно с процессами исторического развития самой древнеегипетской циви- лизации21. Как отмечает И. М. Лурье: «Египетский судебный процесс, его обряд, восходит к начальным периодам истории Египта. Возникнув как суд-состязание, следы которого отчетливо сохранились, например, в “Споре Гора и Сета”, в котором боги выступают скорее не как судьи, а как арбитры, стремящиеся примирить непримиримые притязания противников»22. Таким образом, при всей скудости и ограниченности информации, имеющейся в распоряжении, есть некоторые основания полагать, что древнеегипетское процессуальное право, зародившись на базе ритуально-мифологической обрядности, первоначально имело прецедентный характер, а вынесенные судебные решения, становясь частью неписаной (а затем и писаной) правовой традиции, служили эталонами для всех конкретных жизненных ситуаций, типологически сходных с той, по поводу которой было принято соответствующее решение.
СТАТЬИ
Типичным примером подобного способа правотворчества является современное англо-саксонское общее право, соответствующее более поздней стадии эволюционного развития. Вместе с тем можно констатировать, что общее право в своей опоре на прецедент не составляет исключения, поскольку всякое правотворчество, равно как и защита прав, на этапе, когда основу правопорядка составляли юридические факты и порожденные ими субъективные права и обязанности, могло иметь лишь прецедентный характер23. Даже в современных условиях конструирование новых сфер правовой действительности может осуществляться при помощи прецедентов, что, на наш взгляд, имеет место, например, в международном частном праве24. Тем более значимой оказывается роль судебного прецедента в системе координат, задаваемой ассоциативнообразным (допредикативным) юридическим мышлением, учитывая высокую степень ритуализма судебных процедур, обусловливающую их суггестивное воздействие на участников правовой коммуникации.
3. Культурно-антропологические предпосылки возникновения судебных процедур в римском праве
Не станет преувеличением утверждать, что антропологические предпосылки судебных процедур во всех культурах, включая древнеримскую, заложены в природе самого человека как биосоциального существа. Генетически судоговорение, равно как и другие ритуалы, практиковавшиеся на ранней стадии социальной эволюции, восходят к играм, широко распространенным не только в человеческих, но и в животных сообществах25. Игровая природа правовых, в том числе судебных, ритуалов, впервые раскрытая еще Й. Хёйзингой26, должна учитываться при рассмотрении как происхождения судебных процедур, применявшихся в римском гражданском процессе, так и эволюции правовой коммуникации в данной сфере. В дого-сударственном и раннегосударственном правопорядках судебные ритуалы, тесно сближаясь с магическими практиками, имели своей целью установить волю богов и иных сверхъестественных сил. Можно утверждать, что в системе координат, задаваемой ассоциативно-образным юридическим мышлением, судебные процедуры являлись разновидностью обрядов дивинации, имевшей важное значение уже в первобытных культурах.
Определение воли богов происходило путем принесения клятвенной присяги, а в дальнейшем судебных поединков, простейшим видом которых являлось бросание жребия, призванного определить победителя в споре. Не случайно во многих древних языках, в том числе в древнегреческом и латинском, слова «право» и «правосудие», помимо прочего, имели значение судьбы и жребия. Таковы, в частности, древнегреческие τύχη , ‘случай’, ‘судьба’, ‘стечение обстоятельств’, μοῖρα , ‘жребий’, ‘доля’, ‘удел’, ‘судьба’, ‘участь’ и т. п., и семантически связанные между собой τό μέρος , ‘часть’, ‘доля’, а также ὁ κλῆρος , ‘жребий’, ‘удел’, ‘доля’, ‘наследство’, κληρόω , ‘определять метанием жребия’27. Отсюда же происходят существительное ὁ καιρός , ‘надлежащая мера’, ‘норма’, и прилагательное τό καίριον , ‘надлежащее’, ‘правильное’, ‘точное’, непосредственно указывающие на правовые аспекты судебной обрядности. С рассмотренными значениями тесно сближается собственно юридическая лексика древнегреческого языка, прежде всего, существительное δικάζειν , ‘взвешивание на весах’, и глагол δικεῖν , ‘бросать’, ‘метать жребий’, из которого этимологически выводится существительное δίκη , ставшее теонимом олицетворенной справедливости. Тождественной семантикой обладает латинское слово iustitia, означавшее не только справедливость и правосудие,
СТАТЬИ
но также метание жребия, принесение клятвы и т. п. В римских юридических текстах часто встречаются существительные iuramentum, ‘присяга’, ‘клятва’, iusiurandum, ‘присяга’, глаголы iurare, ‘клясться’, ‘присягать’, iurgare, ‘ссориться’, ‘судиться’, прилагательное iuratorius, ‘клятвенный’, наречие iurato, ‘клятвенно’, в соответствующих значениях. Таким образом, обряды правосудия представляли изначально магические ритуалы, заключавшиеся в принесении клятвы и последующих судебных поединках.
Естественно, что в этих условиях необходима была процедура, призванная уравнять силы физически неравных соперников и требовавшая присутствия в состязании «третьей стороны», следящей за справедливостью, т. е. процедурной правильностью, поединка. Этот арбитр изначально мог и не обладать властью над тяжущимися, поскольку в его задачи входило не вынесение или исполнение приговора, а лишь недопущение злоупотреблений, в конечном счете превращавших судебный процесс в торжество «кулачного права». Очевидно, что при наличии процессуальных (изначально ритуально-магических) требований и в присутствии арбитра-судьи ни о каком самоуправстве спорящих сторон не могло быть и речи.
Произнесение клятв и ритуальные поединки в качестве первичных форм судебной процедуры практиковались во многих правопорядках Древнего мира. Наряду с другими средствами доказывания они применялись в древнеегипетском гражданском и уголовном процессе вплоть до Нового царства (XVI–XI вв. до н. э.)28, аналогичные клятвы предусматривались древневавилонским и ветхозаветным правом29. Примечательно, что в древних языках принесение судебных клятв обозначалось знаком ладони или поднятой руки, в семантику которого, помимо прочего, входили значения совершения религиозных ритуалов, произнесения заклинаний, а также осуществления личного и хозяйственного господства30, как, например, шум. zi, ‘клятва’, др.-вавил. niš, ‘клятва’, ‘поднятие (руки)’, др.-егип. ᶜr.ḳ , ‘клясться’.
Тождественное употребление имели др.-греч. χειρός , ‘рука’, в устойчивом выражении ἐμβάλλειν χειρός πίστιν , ‘давать руку в знак верности [клятве]’ (Soph. Philoct. 813), и лат. manus, ‘рука’, являвшееся полисемичным и использовавшимся в различных словосочетаниях для обозначения принесения клятвы, судебной присяги, завладения предметом, господства (в том числе хозяйственного), принадлежности, обладания и т. п. Также в балтийских и славянских языках данное слово выступает элементом сложившейся, видимо, еще в период индогерманского языкового единства этимологической группы, куда наряду с лит. rankà, ‘рука’ и лтш. rùoka входят шведск. vrà ‘угол’, древнеисл. vrangr, ‘кривой’, ‘косой’, средненижненем. vrange, ‘дуга’31, обладавшие общей семантикой со словенск. kolnem, kleti, ‘проклинать’, польск. klne, klač, ‘проклинать’, старолатышск. klentet, ‘проклинать’, и древнепрусск. klantemmai, ‘мы проклинаем’, значение которых, по утверждению М. Фасмера, было связано с тем, «что при произнесении клятв касались земли рукой»32.
Общезначимость рассмотренного лингвистического материала иллюстрируется на примере иероглифической письменности древних майя, где многие иероглифы, в том числе передававшие социальнополитическую лексику, обводились овальным контуром. В нем исследователи видят редуцированное изображение ладони33, отсылающее к так называемой «ручной речи», которая возникла на начальной стадии человеческой коммуникации34, датируемой палеолитом, но была, как доказали исследования супругов А. и Б. Гарднеров, характерна уже для высших приматов, а именно шимпанзе35. Таковы, например, знаки la, ‘лицо’, ‘владыка’, chac, ‘большой’, chac’, ‘небо’, ‘высокий’, naab, ‘ладонь’, ‘пространство’36. Особенно примечателен в данном смысле иероглиф ez, ‘колдовство’, представляющий собой реалистичное изображение раскрытой ладони. Таким образом, жесты линейной ручной речи и развившиеся на их основе слова звукового языка, имевшие рассмотренные выше значения, представляли собой речевые акты, иллокутивная сила которых состояла в воздействии на поведение коммуникантов37, что сделало их пригодными при совершении ритуалов судоговорения.
Принесение клятв и следовавший за этим поединок сторон являлись важными составными частями судебного процесса у хеттов, причем, как показывают новейшие исследования, хеттские судебные процедуры были в значительном объеме заимствованы древнегреческим правом микенской эпохи38. Возмож- но, к числу таких поединков относилась ритуальная погоня, подобная той, что была описана в «Илиаде» (Il. XXII. 136 sgg.)39, итогом которой становилось принесение проигравшей стороны в жертву, со временем замененное выплатой победителю имущественной компенсации40. Отголоски подобных представлений прослеживаются не только в правовом, но и в палеографическом материале, в частности, в ряде египетских надписей эпохи Древнего Царства, в которых существительное ma’at, ‘правосудие’, ‘справедливость’, включало в себя графему m341, использовавшуюся в глагольной форме пассивного залога m3', ‘приносить в жертву’42.
СТАТЬИ
В римском гражданском процессе, видимо, очень рано жизнь и личная свобода ответчика перестают быть предметом тяжбы, уступая место имуществу, по поводу которого и велся спор. Исключение составляли лишь legis actiones per manus iniectionem, сохранявшие связь с древнейшими формами судопроизводства, уполномочивавшими истца на личную расправу с ответчиком. Первоначально таким имуществом выступали движимые вещи и недвижимость, а впоследствии денежная сумма как универсальный имущественный эквивалент. По мере эволюции правопорядка, стимулировавшейся переходом от образно-ассоциативного мышления к понятийному, ритуальные состязания и клятвы утрачивают свою доказательную силу. На передний план выходит не манифестация воли божественных сил, а эффективная и всесторонняя защита интересов субъектов правового общения, которая ставится в прямую зависимость от разработанности судебной процедуры43.
Значительную роль в этом повороте сыграли правовая наука и деятельность юристов в целом (Pomp. 1 enchr., D. 1.2.2.5). В трудах римских юристов конструировался правопорядок путем осмысления и систематизации прав и обязанностей его субъектов в контексте конкретных жизненных ситуаций, в том числе ситуаций, связанных с различного рода юридическими коллизиями. Обобщая множество типологически сходных случаев, prudentes формулировали рекомендации, на которых основывались судебные решения44. Указанное обстоятельство получило отражение в античной политико-правовой мысли, признававшей доктринальные позиции обязательными для судей. Так, по словам Цицерона: «Если же они [т. е. судьи] признают ответ юриста правильным и заявляют, что следует присудить иначе, то они говорят, что нужно присудить плохо. Ведь не может быть так, чтобы о праве следовало вынести одно решение в суде, другое в ответе на консультации, и так чтобы считался знатоком права тот, кто утверждает, что правом является то, что не должно быть решением суда»45. Авторитет затоков права, таким образом, не только выступал формальным основанием для вынесения решения, но и придавал субъективным правам и закрепленным ими притязаниям обязательную силу для субъектов, не являвшихся участниками конкретного правоотношения46.
4. Этапы развития римского гражданского процесса: общая характеристика
Необходимость создания действенных механизмов исполнения судебных решений потребовала участия магистратов, представляющих государство, в деятельности суда. Эволюция гражданского процесса в Риме позволяет усомниться в правильности традиционной точки зрения, в соответствии с которой судопроизводство изначально возникает как одно из направлений публично-властной деятельности государства. Напротив, факты свидетельствуют о том, что государство далеко не сразу стало осуществлять судебную власть, особенно в гражданско-процессуальной сфере, где рассмотрение судебных споров и разрешение конфликтов длительное время производились в порядке частной инициативы при минимальном вмешательстве со стороны государства.
Так, если на ранних этапах развития римского процессуального права участие должностного лица (в частности, претора, отвечавшего за организацию судебных процедур) ограничивалось лишь контролем за соблюдением формальных требований к предъявлению иска, то с развитием правопорядка стало необходимым более активное вмешательство должностного лица как в подачу иска, так и в рассмотрение дела. Хотя деление гражданского процесса на две стадии, преторскую (in iure) и судейскую (in iudicio), было
СТАТЬИ
характерно уже для легисакционного процесса , сложившегося на основании Законов XII таблиц и являвшегося древнейшим видом гражданского судопроизводства, роль претора сводилась в основном к решению трех задач.
Во-первых, от имени римского народа претор оценивал общественную значимость правовых притязаний частных лиц, принимая решение, надлежит ли дать этим притязаниям правовую (в том числе судебную) защиту и какие конкретно средства защиты должны быть использованы. По-видимому, данная функция преторской юрисдикции была основополагающей, особенно на начальном этапе развития правосудия в условиях процедурной неразвитости последнего. Гражданский коллектив, заинтересованный в поддержании стабильности правопорядка, угрозой которому выступали не только частный произвол, но и неконтролируемые судебные тяжбы по малозначимым поводам (подобным вошедшему в поговорку «спору из-за тени осла»), предоставлял должностному лицу полномочия, позволявшие производить селекцию юридически значимых требований, на что указывает стандартная формулировка iudicium dabo, ‘дам защиту’ (D. 4.3.1.1; 39.4.1 pr.), или actionem dabo, ‘дам иск’ (D. 42.8.1 pr.), присутствующая во многих положениях преторского эдикта47.
Во-вторых, в обязанности претора входило предотвращение возможного самоуправства, внесудебных расправ и прямого насилия, создававших, особенно на фоне до конца не изжитых обычаев кровной мести и коллективной ответственности, предпосылки для неразрешимых социальных конфликтов, влекущих за собой разрушительные последствия для правопорядка. Не случайно положения эдикта содержат прямые указания на недопустимость подобных эксцессов, выраженные словами vim fieri veto, ‘запрещаю применять силу’48. Следует попутно отметить, что данная формула использовалась в качестве правового основания не только судебной, но и внесудебной защиты, в частности, интердиктной защиты владельческих прав49.
Конфликтные ситуации становились особенно опасными, когда спор шел не об индивидуально определенных вещах, обладание которыми исключало их физическую принадлежность другим лицам, а о родовых вещах, характеризуемых количественным признаком50, или о вещах, находящихся в общем пользовании, подобных, например, ager publicus (D. 1.8.2 pr.) или проточной воде51. В этом случае предотвращение потенциального насилия становилось особенно актуальным, требуя соответствующих действий со стороны публичной власти.
Наконец, в-третьих, организуя древнейший вид гражданского процесса, суть которого состояла в совершении ритуальных действий и произнесении фраз, предусмотренных буквой закона (в данном случае, Законов XII таблиц), судебный магистрат, вначале консул, а затем, после реформы 367 г. до н. э., городской претор, обеспечивал юридическую правильность процедуры. И поскольку, в отличие от понтификов, гражданский магистрат не наблюдал за точным воспроизведением сторонами религиозно-символического смысла судебного ритуала, его роль в легисакционном процессе ограничивалась в основном выполнением технических функций52.
А именно, не входя в рассмотрение дела по существу, он принимал или отклонял иск, руководствуясь исключительно формальными соображениями53. Прекрасной иллюстрацией сказанному служат слова Гая: «…если кто-нибудь отыскивал вознаграждение за поврежденные виноградные лозы, называя их лозами, то отвечали, что он проиграл иск, так как должен был назвать лозы деревьями, на том основании, что Закон XII таблиц, согласно которому давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о подрезанных кустах»54.
По мере развития правового сознания формализм древнейшего цивильного права, нашедший выражение в легисакционном судопроизводстве, начинает входить в противоречие не только с потребностями хозяйственного оборота, а также имущественными интересами его участников, но и с чувством справедливо- сти, предъявлявшим к правосудию известные требования55. В том числе речь идет о необходимости оказания сторонам содействия в юридически грамотном формулировании иска с его материальной и процессуальной сторон. Реализация указанных требований привела к появлению в конце II в. до н. э. нового вида процесса, а именно формулярного процесса (per formulas), впервые предусмотренного в 123 г. до н. э. lex Aebutia.
СТАТЬИ
В формулярном процессе при сохранении двух стадий in iure и in iudicio заметно возрастает значение должностного лица, организующего рассмотрение дела на первой стадии. Теперь магистрат не только принимает иски и назначает судью, но и участвует в деле, формулируя позиции сторон и излагая их в виде специального предписания (преторской формулы), которое представляло собой адресованное судье распоряжение решить дело с учетом всех существенных обстоятельств, изложенных в формуле. Участие претора в формулярном процессе сделало последний более гибким в сравнении с архаичным легисакционным процессом, благодаря чему появились возможности для создания новых исковых средств защиты субъективных гражданских прав, отвечающих развивающимся потребностям хозяйственной жизни, а также господствующим в правосознании и правовой культуре представлениям о правосудии и справедливости.
Таким образом, зародившись как один из инструментов саморегуляции, применявшихся в догосудар-ственном сообществе, судебные органы стали «ветвью» государственной власти, при всей условности данного термина, применительно к античному полисному государству, каковым являлась Римская республика последних веков до н. э. Процедурные преимущества формулярного процесса, а также публично-властная институционализация судебной системы обусловили отмену легисакционного процесса в конце I в. до н. э., в результате принятия lex Iulia iudiciorum privatorum 17 г. до н. э., обеспечившего более активное участие претора и иных магистратов в организации судопроизводства в рамках формулярного процесса.
Вместе с тем процессуальные полномочия претора имели свои пределы, вытекающие из самой сути преторского империя, являвшегося «меньшим империем» (imperium minus)56. Речь идет, прежде всего, о независимости судьи от претора при рассмотрении дела по существу на стадии in iudicio, что послужило причиной неспособности магистрата влиять на вынесение судебных решений иначе как посредством формулы, описывающей модельные черты юридически значимой ситуации. Кроме того, преторская юрисдикция ограничивалась сроком, на который был избран магистрат. В результате лицо, чей иск был отклонен по формальным основаниям, могло повторно предъявить его лишь через год, после вступления в должность нового претора. Наконец, уже в императорскую эпоху полномочия претора вступают в противоречие с усиливающимися авторитарными тенденциями, в результате чего и сама эта должность, подобно иным республиканским магистратурам, утрачивает свое значение.
Изменения политической структуры при переходе от Республики к Принципату не могли не затронуть сферы процессуального права, где на смену формулярному приходит экстраординарный процесс (extra ordinem cognitio), сложившийся в начале I в. н. э. в практике императорских судов57. Принцепсы стремились встроить гражданский процесс в бюрократическую иерархию, ликвидировав разграничение судейских и магистратских полномочий и устранив независимость судьи от магистрата, характеризовавшие более ранние этапы эволюции процессуального права. Указанная тенденция сделалась необратимой после отмены процесса per formulas в 342 г., сделавшей экстраординарный процесс единственным видом производства (C. 2.57.1).
В экстраординарном процессе судебные полномочия исполнялись императорскими чиновниками. Как следствие, судебная процедура становится более формализованной, утрачивая связь с запросами и потребностями сторон, которые перестают играть ведущую роль в процессе. Основным средством доказывания в экстраординарном процессе теперь являются письменные документы, тогда как устные показания сторон и свидетелей в значительной мере лишаются доказательной силы. Приоритет письменных документов и свобода должностного лица, исполняющего судейские полномочия, по собственному усмотрению выносить решения создают условия для различного рода судебных ошибок, обсуждавшихся Сенекой Старшим, Квинтилианом, Апулеем и другими авторами риторических сочинений, остро критиковавшими изъяны судебной процедуры с позиций обыденного правосознания (Apul. apol. 27). Компенсировать дефекты ког-ниционного судопроизводства был призван впервые появившийся механизм обжалования решений в вышестоящих судах, вплоть до императорского. Тем не менее даже этот механизм оказался не в состоянии оказать противодействие судейскому и бюрократическому произволу.
СТАТЬИ
5. Эволюция римского гражданского процесса и общеисторические закономерности динамики правопорядков
Обзор основных этапов эволюции гражданского процесса в Древнем Риме позволяет наметить три основные тенденции его развития, имевшие взаимосвязанный и взаимно обусловленный характер. Первая тенденция, подробно описанная выше, состояла в постепенном усилении роли государства, превратившего суд из неофициальной процедуры добровольного посредничества в урегулировании конфликтов в структурное звено бюрократического аппарата, реализующее принадлежащие ему властные полномочия58. Вторая тенденция заключалась в неравномерности соотношения формальной и содержательной составляющих судопроизводства на разных этапах его эволюции. Так, для легисакционного процесса характерно безусловное доминирование ритуальных форм над содержательными моментами, в результате чего исход дела ставился в прямую зависимость от соблюдения ритуальных предписаний.
Формулярный процесс, в отличие от легисакционного, направлен на выработку максимально гибких и эффективных средств защиты субъективных прав и законных интересов сторон, в чем принимало активное участие должностное лицо, выступавшее от лица гражданского коллектива и руководствовавшееся, прежде всего, идеей справедливости (aequitas)59, противопоставляемой внешнему ритуализму строгого права, нашедшему свое воплощение в легисакционном процессе. Как известно, это противоречие строгого и «справедливого» права, ярко проявившееся в преторском правотворчестве, по всей видимости, имеет универсальный характер, будучи присуще любым правопорядкам на известном этапе их эволюционного развития. Чтобы убедиться в общезначимости оппозиции ius strictu и bona fides в римском праве, достаточно вспомнить, что сходная контроверза имела место и в англосаксонском праве60, долгое время характеризовавшемся дуализмом общего права и права справедливости, получившим оформление в XV в. благодаря деятельности Суда Лорда-канцлера. Полагаем, что такой дуализм являлся не просто результатом действия социально-исторических факторов, но и представлял собой необходимый атрибут логической структуры англо-саксонского права XV–XIX вв61.
Важной предпосылкой указанных процессуальных изменений послужил переход от ассоциативнообразного мышления к мышлению понятийному, способствовавший экспликации базовых аксиологических категорий, лежавших в основе юридической коммуникации, в том числе категории доброй совести (bona fides)62, выступавшей руководящим началом судебной и правоприменительной деятельности. О значении аксиологических оснований для развитого судебного дискурса свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что как aequitas, так и bona fides постоянно находились в центре внимания римских теоретиков ораторского искусства, приложивших наряду с юристами немало усилий для концептуализации указанных понятий63.
В свою очередь, экстраординарный процесс характеризовался известным упадком правового сознания и снижением общего уровня правовой культуры участников, обусловившими бюрократизацию судопроизводства. Поскольку как доктрина, так и деятельность республиканских магистратов утрачивают правотворческое значение, выходят из обращения наработанные способы практического применения принципов справедливости и доброй совести к конкретным фактическим ситуациям, уступая место бездумному, хотя во многих случаях и высокотехничному, следованию букве закона, а именно императорских конституций, чей патетический стиль и многочисленные апелляции к справедливости нередко маскировали утрату данным понятием собственно юридического содержания64.
Наконец, третья тенденция с максимальной полнотой и наглядностью проявила себя в плане внешней, знаково-символической формы процессуальных действий, эволюция которой характеризуется феноменом так называемого «семиотического ослабления признака». В общем смысле семиотическое ослабление признака, присущее правовой коммуникации, характеризуется следующим образом: «От полного тождества действия и информационной модели правовые институты, по-видимому, эволюционировали в сторону подобия, когда вместо тождества знака и действия выбирается некий ритуальный процесс, имитирующий преодоленную ценность — действие силой… Такое понимание развития права отвечает общей тенденции семиотического развития — стремлению к семиотически ослабленному действию»65.
Едва ли можно согласиться с конечным выводом, что семиотическое ослабление признака в юридической сфере состояло в переходе от физического насилия к судебному принуждению. Механизмами судебного разрешения споров изначально располагает любой, даже самый неразвитый, правопорядок. Думается, что семиотические последствия ослабления признака следует искать в характере самой знаковой коммуникации, имеющей свои особенности на разных этапах правовой эволюции. Применительно к римскому частному праву это означало переход от совершения ритуальных действий на стадии легисакционного процесса к устному судоговорению, применявшемуся в формулярном процессе, а затем и к письменным формам, ставшим основным средством в рамках экстраординарного процесса. Таким образом, в римском гражданском судопроизводстве, в ходе его эволюции, имеет место семиотическое ослабление признака вещественности совершения процессуальных действий, трансформировавшихся из судебных поединков в устные судебные прения сторон, а затем в письменное судопроизводство.
СТАТЬИ
Отмеченные изменения особенно глубоко повлияли на форму исков в римском праве, что представляется далеко не случайным, учитывая, что всякое субъективное право в представлении римских юристов имело процессуальную форму иска. Так, согласно широко известному определению Цельса: «Иск есть не что иное, как право лица требовать в судебном порядке то, что ему должны»66. Соответственно, на стадии легисакционного процесса иск как процедурная форма субъективного права лица представлял собой единство вербальных и невербальных действий, предусмотренных ритуалом и закрепленных буквой закона (прежде всего, Законов XII таблиц). Отличие формулярного судопроизводства состояло в том, что в нем исковое заявление приобрело свободную от ритуализма форму. Обязанность истца состояла в том, чтобы устно или письменно довести до сведения ответчика исковое требование (editio actionis)67, исходя из которого магистратом составлялось предписание судье рассмотреть дело, руководствуясь фактическими обстоятельствами и правовыми основаниями, изложенными в формуле.
Лишь в экстраординарном процессе исковое заявление приобретает современную форму письменного документа, содержащего в себе требование истца или заявителя (ср. п. 1. ст. 131 ГПК РФ, п. 1 ст. 125 АПК РФ, п. 1 ст. 125 КАС РФ)68. Попутно заметим, что в современных условиях цифровизации правопорядка и перехода к электронным технологиям в правоприменительной и судебной деятельности трансформируется исковое заявление, приобретающее форму электронного документа69. Виртуализация исковых заявлений представляет собой дальнейшее развитие тенденции к ослаблению семиотического признака вещественности процессуальных действий, наблюдавшейся уже в римском частном праве.
Эволюция форм исков в римском гражданском процессе отражает общие закономерности исторической динамики средств культурной коммуникации, подтверждая правильность выводов Н. Я. Марра о том, что в диахронной ретроспективе коммуникация в целом (и правовая коммуникация, в частности) представляет собой стадиальную смену типов семиозиса, приводящую к ослаблению связей знаковых десигнатов с их предметными референтами. Так, на основе невербальной жестовой речи и в дополнение к ней возникает устная вербальная речь, которая в дальнейшем дополняется письменной речью. Переходы на каждую последующую стадию коммуникации имеют революционный характер, обусловливая системную перестройку всех сфер человеческого мышления и культуры, в том числе юридической сферы, частным случаем и моделью эволюции которой служит история процессуального права Древнего Рима.
6. Заключение
В настоящей статье мы не стремились дать подробный исторический обзор, рассмотрев в хронологической последовательности все те изменения, которые претерпел римский гражданский процесс. Наша задача состояла в том, чтобы сформулировать и эмпирически обосновать гипотезу, суть которой состоит в двух допущениях. Во-первых, гражданский процесс является важнейшей составляющей правопорядка Древнего Рим а, отражающей особенности не только римского права, но и иных стадиально близких право-
СТАТЬИ
порядков древности. Во-вторых, тенденции развития римского гражданского процесса проливают свет на основные общеисторические закономерности эволюции правовой коммуникации.
Правовую коммуникацию можно определить как передачу информации о возможном, должном и запрещенном поведении, конструирующей в сочетании с иными информационными процессами в обществе социальную реальность. Средствами кодирования информации, специфически присущими праву, являются речевые акты, имеющие семиотическую природу, план содержания которых образуют нормы права, а также субъективные права и обязанности. Имеются основания полагать, что эволюционная динамика правовой коммуникации, в диахронной ретроспективе определяющая эволюцию правопорядков, проявляется как на уровне внешнего знакового выражения, так и в содержательном плане.
Эволюция знаковой коммуникации, рассмотренная на материале римского гражданского процесса, включает в себя три этапа. Первый, древнейший, этап характеризуется преобладанием устной речи, неотделимой от невербальных (жестовых) средств коммуникации, реализуемых в предусмотренной ритуалом форме, несоблюдение которой делает нерелевантной передаваемую информацию. Это неразделимое единство слова и действия, определявшее все аспекты правопорядков, со всей очевидностью проявляло себя в легисакционном процессе, ритуальный характер которого исключал необходимость участия государства в судебной процедуре. Указанная тенденция в числе прочего обусловливается отсутствием устоявшейся и пользующейся официальным признанием документальной фиксации юридически значимой информации. Наконец, на третьем этапе, соответствующем экстраординарному процессу, релевантность правового общения стала определяться его письменным оформлением, что привело к вытеснению устной речи на периферию коммуникативного пространства.
Рассмотренные изменения в сфере правовой коммуникации служат важным показателем формирования нормативного компонента правопорядка. На ранних стадиях правовой эволюции неразвитость юридических норм была обусловлена синкретическим единством религиозных, моральных и собственно правовых императивов, получивших внешнее выражение и закрепление в ритуале. Поскольку ритуал целиком и полностью определял собой поведение индивидов во всех значимых сферах его деятельности, сводя к минимуму проявления автономии воли субъектов в поведенческих актах, отсутствовала потребность в собственно нормативном регулировании поведения, устанавливающем общезначимые пределы индивидуальной свободы. В этих условиях ритуал становится основным регулятором, в том числе правового поведения.
По мере роста свободы, связанного с развитием личностного самосознания и переходом от ассоциативно-образного к понятийному мышлению, ритуал утрачивает способность оказывать регулирующее воздействие на правовое поведение, благодаря чему основными регуляторами становятся субъективные права и обязанности участников конкретных жизненных ситуаций, чаще всего имеющие письменно нефиксированный характер. Одновременно на основе совокупности субъективных прав, образующих основу правопорядка, начинает складываться его нормативное измерение, устанавливающее общезначимую меру возможного и должного поведения обладателей субъективных прав и обязанностей.
Как было отмечено ранее, основными источниками нормотворчества в правопорядках древности (в том числе в правопорядке Древнего Рима) являлись деятельность юристов и неразрывно связанная с ней судебная практика, на развитие которых существенным образом повлияла выработка форм письменной фиксации права. Вместе с тем по мере развития юридической коммуникации нормы права получают закрепление и в официальных текстах, прежде всего, в законах и иных нормативно-правовых актах, со временем занимающих главенствующее положение в системе источников права. Рассмотренные на материале римского частного права тенденции так или иначе проявляют себя во всех правопорядках древности, что позволяет отнести их к числу всеобщих закономерностей правовой эволюции.
Список литературы История римского гражданского процесса как универсальная модель эволюции правопорядков древнего мира
- Архипов, В. В., Поляков, А. В., Тимошина, Е. В. Адаптация опыта систем прецедентного права к российской правовой системе // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 3 (302). С. 113— 134.
- Барон, Ю. Система римского гражданского права: в 6 кн. СПб. : Изд. Р. Асланова «Юридический Центр-Пресс», 2005. 1100 с.
- Белов, В. А. Предметно-методологические проблемы цивилистической науки // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М. : Юрайт-Издат, 2007. С. 124-160.
- Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М. : Прогрес-Универс, 1995. 456 с.
- Ван Хук, М. Право как коммуникация. СПб. : ИД СПбГУ, ООО «Университетский издательский консорциум», 2012. 288 с.
- Власова, О. А. Империй римского претора: к проблеме интерпретации // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2018. Т. 1. № 2. С. 5-12.
- Голуб, К. Ю. Судебный прецедент в системах европейского и международного и европейского права // S Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право. 2007. Т. 7. № 1. С. 92-96. ¡£
- Дементьева, В. В. Магистратская власть Римской республики: содержание понятия imperium // Вестник < древней истории. 2005. № 6. С. 46-75. q
- Дернбург, Г. Пандекты. Т. I. Ч. 2. Вещное право. СПб. : Университетск. тип., 1905. 363 с.
- Дождев, Д. В. Ars boni et aequi в определении Цельса: право между искусством и наукой // Труды ИГ-ПРАН. 2016. № 4. С. 61-73.
- Дождев, Д. В. Римское частное право. Изд. 3-е, испр. и доп. М. : Норма, ИНФРА-М, 2013. 784 с.
- Ершова, Г. Г. Антропосистема: коммуникативные модели и регулируемая интеграция // Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 4. С. 11-25.
- Ершова, Г. Г. Майя: тайны древнего письма. М. : Алетейя, 2004. 296 с.
- Жданов, В. В. Эволюция категории Маат в древнеегипетской мысли. М. : Современные тетради, 2006. 136 с.
- Йеринг, Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб. : Тип. В. Безобразова и Ко, 1876. 321 с.
- Кипп, Т. История источников римского права. СПб. : Изд. Н. К. Мартынова, 1908. 152 с.
- Кнорозов, Ю. В. К вопросу о классификации сигнализации // Основные проблемы африканистики. М. : Наука, 1973. С. 324-334.
- Кнорозов, Ю. В. Письменность индейцев майя. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. 664 с.
- Ковкель, Н. Ф. Обзор Международной философско-правовой школы в Республике Беларусь // Труды Института государства и права РАН. 2019. Т. 14. № 6. С. 197-218. DOI: 10.35427/2073-4522-2019-14-6-kovkel.
- Коптев, А. В. Кодификация Феодосия II и ее предпосылки // Древнее право. 1996. № 1. С. 247-261.
- Кофанов, Л. Л. Роль responsa римских юристов в disputatio forensis в римской гражданской общине V-I вв. до н. э. // Вестник древней истории. 2014. № 4 (291). С. 87-110.
- Липшиц, Е. Э. Право и суд в Византии IV-VIII вв. Л. : Наука, 1976. 230 с.
- Логинов, А. В. Судебная сцена на «щите Ахилла» в «Илиаде» и процесс legis actio sacramento // Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее: Сборник докладов VII Международной научно-практической конференции. М. : Изд-во МГЮА им. О. А. Кутафина, 2015. С. 144-147.
- Логинов, А. В., Трофимов А. А., Линько А. В. Возмездие у праиндоевропейцев, микенских и гомеровских греков. М. : Academia, 2017. 390 с.
- Логинов, А. В., ШелестинВ. Ю. Суд и наказание в Микенской Греции и Хеттском царстве. М. : Academia, 2019. 288 с.
- Лурье, И. М. Очерки древнеегипетского права XVI-X вв. до н. э. Л. : Изд. Гос. Эрмитажа, 1960. 354 с.
- Мальцев, Г. В. Месть и возмездие в Древнем мире. М. : Норма — ИНФРА-М, 2012. 736 с.
- Марр, Н. Я. Иштарь (от богини матриархальной Афроевразии до героини любви феодальной Европы) // Яфетический сборник. Вып. 5. Л. : Изд-во АН СССР, 1927. С. 109-178.
- Марр, Н. Я. Язык // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. II. Основные вопросы языкознания. М. ; Л. : Соцэк-гиз, 1936. С. 128-135.
- Муромцев, С. А. О консерватизме римской юриспруденции // Муромцев С. А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М. : Статут, 2002. С. 59-212.
- Осветимская, И. И. Игра как метод повышения эффективности юридического мышления // Российский журнал правовых исследований. 2019. Т. 6. № 3. С. 87-97.
- Поляков, А. В. Нормативность правовой коммуникации // Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. СПб. : ИД «Алеф-Пресс», 2014. С. 139-155.
- Проскурин, С. Г. Эволюция права в свете семиотики // Вопросы филологии. 2010. № 3. С. 106-111.
- Савельев, В. А. Справедливость (aequitas) и добросовестность (bona fides) в римском праве классического периода // Государство и право. 2014. № 3. С. 63-72.
- Серль, Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М. : Наука, 1986. С. 170-194.
- Синюков, В. Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы // Lex Russica. 2019. № 9 (154). С. 9-18.
- Суриков, И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М. : Языки славянской культуры, 2004. 144 с.
- Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. II. М. : Прогресс, 1986. 671 с.
- Хвостов, В. М. История римского права. Изд. 3-е, испр. и доп. М. : Тип. т-ва Сытина, 1907. 463 с.
- Хёйзинга, Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М. : Прогресс-Традиция, 1997. 416 с.
- Хофельд, У. Н. Дополнительное замечание относительно конфликта общего права и права справедливости // Основные юридические понятия Уэсли Н. Хофельда. СПб. : Алеф-Пресс, 2016. С. 160-165.
- Ando, C. Substantive Justice in Provincial and Roman Legal Argument // The Impact of Justice on the Roman ¡£ Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017). Leiden : Brill, 2017. Pp. 138-156.
- Barton, R. E. The Kalingas: Their Institution and Custom Law. Chicago : University of Chicago Press, 1949. 275 p.
- Baty, Th. The Difference between Arbiter in the Roman Sense and Modern Arbitrators // University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. 1917. Vol. 65. № 8. Pp. 732-736.
- Betancourt, F. Derecho romano clásico. 3a ed., rev. y aument. Sevilla : Universidad de Sevilla, 2007. 672 p.
- Boas, F. Some Problems of Methodology in the Social Sciences // Boas F. Race, Language and Culture. New York : The MacMillan Company, 1940. Pp. 260-269.
- Bonner, R. J. Administration of Justice in the Age of Homer // Classical Philology.1911. Vol. 6. Pp. 12-36.
- Bonner, R. J., Smith G. The Administration of Justice from Homer to Aristotle. Vol. 2. Chicago : University of Chicago Press, 1938. 320 p.
- Bunse, R. Die klassische Prätur und die Kollegialitat (par potestas) // Zeitschrift der Savigny — Stiftung für Rechtsgeschichte. R. A. 2002. Bd. 119. Pp. 29-43.
- Cantarella, E. Violence privee et le process // La violence dans les mondes grec et romain / Ed. J.-M. Bertrand. Paris : Annee d'edition, 2005. Pp. 339-347.
- Cargill, J. Athenian Settlements of the Fourth Century B. C. Leiden : Brill, 1995. 487 p.
- Chehata, Ch. Le testament dans l'Egypte pharaonique // Revue historique de droit française et etranger. 1954. Vol. 31. Pp. 1-21.
- Edwards, М. W. The Iliad: a commentary / Ed. G. S. Kirk. Vol. V: Books 1-20. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. 374 p.
- Gallo, F. Sulla definizione celsina del diritto // Gallo F. Opuscula selecta. Padova : CEDAM, 1999. Pp. 551-604.
- Gardiner, A. H. Egyptian Grammar. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1957. 682 p.
- Gardner, R. A., Gardner B. T. Teaching Sign Language to a Chimpanzee // Science. New Series. 1969. Vol. 165. № 3894.Pp.664-672.
- Grevesmühl, G. Die Gläubierangfechtung nach klassischen Römischen Recht. Göttingen : Wallstein Verlag, 2003. 208 p.
- Grosso, G. Lezioni di storia di diritto romano. 3 ed. Torino : Giappichelli, 1955. 548 p.
- Hoffner, H. A. The Laws of the Hittites. Waltham : Brandeis University Press, 1963. 362 p.
- Jolowicz, H. F., Nicholas B. A Historical Introduction to the Study of Roman Law. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1972. 528 p.
- Kaser, M. Das Römische Zivilprozessrecht. München : C. H. Beckische Verlagbuchhandlung, 1966. 570 p.
- Kaser, M. Das Urteil als Rechtsquelle im Römischen Recht // Festschrift für Fritz Schwing / hrsg. von R. Strasser. Wien : Metzger, 1978. Pp. 116-130.
- Kaufmann, H. Zur Geschichte des Aktionenrechtlichen Denkens // Juristen Zeitung. 1964. № 15/16. Pp. 482489.
- Kocourec, A. The Formula Procedure of Law // Virginia Law Review. 1922. Vol. 8. № 6. Pp. 337-355.
- Krawietz, W. Juridische Kommunikation im modernen Rechtssystem in rechtstheoretischer Perspektive // Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert / hrsg W. Brugger, U. Neumann, S. Kirste. Fr. a. / M. : Suhrkamp, 1998. Pp.181-206.
- Labruna, L. Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia. Napoli : Jovene, 1972. 319 p.
- Leesen, T. M. Gaius Meets Cicero: Law and Rhetoric in the School Controversies. Leiden ; Boston : M. Nijoff Publishers, 2010. 357 p.
- Lenel, O. Das Edictum perpetuum. Ein Versuch seiner Wiederherstellung. 3. Aufl. Leipzig : B. Tauschnitz Verlag, 1927. 574 p.
- Martino, F. de. Storia della Costituzione Romana. Vol. I. Napoli : E. Jovene, 1958. 510 p.
- Metzger, F. Roman Judges, Case Law and Principles of Procedure // Law and History Review. 2004. Vol. 22. № 2. Pp. 243-275.
- Moreno, A. The Attic Neighbour. The Cleruchy in the Athenian Empire // Interpreting the Athenian Empire / Ed. by J. Ma. London : Duckworth, 2009. Pp. 211-221.
- Nagy, G. Homeric Responses. Austin : University of Texas Press, 2003. 100 p.
- Price, J. M. The Oath in Court Procedure in Early Babylonia and the Old Testament // Journal of American Oriental Society. 1929. Vol. 49. Pp. 22-39.
- Pringheim, F. Bonum et aequum // Zeitschift der Savigny — Stiftung für Rechtsgeshichte. Romanistische Abteilung. 1932. Bd. LII. Pp. 78-155.
- Riccobono, S. Lineamenti della storia delle fonti del diritto romano. Milano : Giuffre, 1949. 247 p.
- Rudorff, A. F. Edicti perpetui quae regula sunt. Lipsiae : Hirzelium, 1869. 292 p.
- Sanctis, G. de. Storia dei Romani. Vol. II. La Conquista del primato in Italia. Firenze : Fb & c Ltd., 2017. 602 p. s
- Santucci, G. Die rei vindicatio im klassischen Römischen Recht: ein Überblick // Fundamina. 2014. Vol. 20. ¡£ № 2. Pp. 833-846. <
- Schiller, A. A. Roman Law: Mechanisms of Development. The Hague ; Paris ; New York : Mouton Publisher, q 1978.606 p.
- Schulz, F. History of Roman Legal Science. Oxford : Clarendon Press, 1953. 358 p.
- Seidl, E. Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte bis zum Ende des neuen Reiches. Glückstadt : J. J. Augustin, 1951. 69 p.
- Spiegelberg, W. Studien und Materialen zum Rechtswesen des Pharaonenreiches der Dynastien XVIII-XXI (c. 1500-1000 v. Chr). Hannover : Comissions — Werlag der Hahnischen Bucchandlung, 1892. 142 p.
- Stewart, R. Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1998. 255 p.
- Streitberg, W. Gotisch fraujinond, frauja // Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde / hrsg. von K. Brugmann, W. Streitberg. Strassburg : Karl J. Trübner Verlag, 1892. Bd.23.Pp. 117-120.