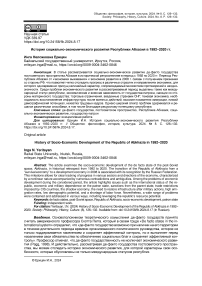История социально-экономического развития Республики Абхазия в 1992-2020 гг
Автор: Ерицян И.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается социально-экономическое развитие де-факто государства постсоветского пространства Абхазия в исторической ретроспективе в период с 1992 по 2020 гг. Переход Республики Абхазия от «экономики выживания» к экономике развития в 2008 г. связан с получением признания со стороны РФ, что позволяет четко отследить прогресс в различных отраслях и направлениях экономики, для которого одновременно присущ нелинейный характер, сопровождаемый множеством противоречий и неоднозначности. Среди проблем экономического развития в рассматриваемый период выделены такие как международный статус республики, экономическая и военная зависимость от государства-патрона, санкции со стороны материнского государства; торговые ограничения, введенные странами СНГ; теневая экономика, необходимость восстановления инфраструктуры после военных действий, высокие показатели эмиграции, низкий демографический потенциал, нехватка трудовых кадров. Однако широкий спектр проблем сдерживался и решался различными способами, в том числе благодаря ресурсному потенциалу республики.
Де-факто государства, постсоветское пространство, республика абхазия, социально-экономическое развитие, государство-патрон
Короткий адрес: https://sciup.org/149146442
IDR: 149146442 | УДК: 339.97 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.17
Текст научной статьи История социально-экономического развития Республики Абхазия в 1992-2020 гг
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия, ,
,
Методология и методы исследования . В работе были использованы методы сравнения и сопоставления, системно-эволюционный подход и метод периодизации. В частности, если рассматривать историю социально-экономического развития Абхазии с момента провозглашения своей независимости от материнского государства, то начало хронологических рамок первого периода можно обозначить датой 23 июля 1992 г.
I период – с 1992 по 2008 г. – характеризуется как «период выживания», поскольку, находясь в статусе непризнанного государства, обремененного множеством санкций со стороны материнского государства, государства-патрона и стран СНГ, Абхазия сумела сохранить своё существование и способность функционировать как государство со всеми возложенными на него социально-экономическими обязательствами перед своим населением.
II период – с 2008 по 2020 г. В августе 2008 г. Республика Абхазия получает признание со стороны РФ, что приводит к изменению её статуса с непризнанного государства на частично признанное. Это изменение существенно повлияло на социально-экономическое развитие республики, поскольку получаемые Абхазией дотации от РФ в первый период имели характер гуманитарной помощи. С 2008 г. заключен ряд российско-абхазских соглашений, которые дают гарантии официальной поддержки республики в социальной, экономической и военной сферах. Это способствует её социально-экономическому развитию.
III период – с 2020 г. по настоящее время – характеризуется как период «стагнации», не охватываемый в представленной работе. Фактором рецессии выступил COVID-19, что неизбежно повлияло на социально-экономическое развитие республики.
Дополнительными рецессионными факторами служат:
-
• с 2020 г. – проецирование сценария азербайджано-армянского реванша за НКР, что вызвало социальную напряженность среди абхазского населения и активную пропаганду темы мобилизации;
-
• с 2022 г. – рост волнений среди абхазского населения, обусловленный дискуссиями об СВО, в которую непосредственно вовлечено государство-патрон, что повлияло на реализацию социально-экономических проектов в республике;
-
• в 2023 г. – проведение второй встречи в рамках консультативно-региональной платформы «3+3», на которую было приглашено материнское государство, но не Абхазия, признанная РФ. Это увеличило социальную напряженность среди абхазского населения в связи с вероятностью улучшения российско-грузинских отношений. Опасения абхазской элиты и населения основаны на сохраняющейся исторической памяти о нелинейности политики государства-патрона в I период.
Результаты исследования . 23 июля 1992 г. Республика Абхазия провозгласила свою независимость, что привело к первой абхазо-грузинской войне1. Сумма ущерба от грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. оценена в 11,5 млрд долл.2 В результате демографических изменений, вызванных августовской войной 1992 г., связь между городом и деревней укрепилась, а вместе с этим и зависимость от стратегий выживания в сельском хозяйстве. Игравшие важную роль в перевозке тяжелых грузов железные дороги пришли в негодность.
Экономическое развитие Абхазии не было одинаковым во всех регионах. Имели место различия на западе и востоке страны, включая г. Сухум, где государственная и частная инфраструктура была серьезно повреждена во время боевых действий, произошедших в 1992 г. В связи с этим восточная Абхазия, в отличие от западной, характеризовалась более низкими темпами восстановления инфраструктуры, предоставления услуг, повышения уровня жизни и заработной платы (Oltramonti, 2015).
После первой военной эскалации Грузия ввела эмбарго в отношении Абхазии. Введение российским правительством экономической блокады Абхазии с 1994 по 1999 г. было обусловлено опасениями расширения внутреннего сепаратизма в Чечне (Ó’Beacháin, Comai, Tsurtsumia-Zura-bashvili, 2016) и готовностью материнского государства к сотрудничеству в борьбе с чеченскими сепаратистами, укрывшимися на территории Грузии, в обмен на эмбарго со стороны России (Oltramonti, 2012).
В январе 1996 г. членами СНГ были приняты санкции, запрещающие торговые, финансовые, транспортные, коммуникационные и другие связи с Абхазией на государственном уровне (Oltramonti, 2015). В 1990-е гг. сельское хозяйство и туризм в Абхазии простаивали3, и челночная торговля выступила важнейшей стратегией выживания на протяжении всего периода изоляции, со временем приобретая специфические гендерные черты, имевшие глубокие социальные последствия. Однако отсутствовало единообразие в соблюдении наложенных торговых санкций, чем успешно сумело воспользоваться абхазское население.
Так, например, с середины 1990-х гг. ходили пассажирские паромы в турецкий город Трабзон, что связывало Абхазию с ее обширной диаспорой в Турции и рынками последней (Oltramonti, 2015). Переориентация внешнеэкономической деятельности Абхазии на турецкий рынок, на который приходилось до 40 % внешнеэкономического оборота, на тот период была дополнительно обусловлена внутрифинансовыми и структурными сложностями у основного внешнеэкономического партнера России (Озган, 2020).
Вдоль абхазо-грузинской линии прекращения огня торговля различными товарами (фундуком, сигаретами, бензином, древесиной и др.) осуществлялась из-за того, что стороны не могли полноценно контролировать разделительную линию (Oltramonti, 2015). Трансграничная торговля способствовала развитию теневой экономики. Бизнес-группы разделили территорию Абхазии на зоны влияния и стали участвовать в перемещении конкретных товаров через реку Псоу, Гальский район и линию прекращения огня.
К 1995 г. грузинские военизированные группировки в основном отказались от своих операций по борьбе с повстанцами в пользу коммерческой деятельности. Вдоль реки Ингури участниками широкомасштабных сетей контрабанды были службы безопасности (российские, абхазские и грузинские), ополченцы (абхазские и грузинские), официальные лица (абхазские и грузинские), миротворческие силы. Параллельно мелкую контрабанду осуществляли жители прилегающих районов, в большинстве своем из Гальского района (Oltramonti, 2012).
Ослабление ограничений на поездки и торговлю начинается с 1999 г., инициированное Государственной думой РФ. Это было обусловлено ухудшением российско-грузинских отношений в связи с нарастающими устремлениями и заявлениями Грузии о желании вступить в НАТО, а также из-за предоставленной беженцам в период второй чеченской кампании возможности укрыться в Панкисском ущелье, что характеризовалось российской властью как поддержка терроризма.
Первым документом, способствовавшим деизоляции республики, стало принятое в июле 1998 г. постановление об изменении режима границы и таможни между Грузией и Россией на участке разделительной линии, касающейся Абхазии.
Впоследствии, в 2000 г., руководством России был принят ряд документов, снимавших ограничения по въезду на территорию страны. Одновременно с этим происходил рост российских и турецких инвестиций в транспортные и туристические инфраструктуры, а также в освоение природных ресурсов.
В 2002 г. жителям Абхазии была предоставлена возможность получения российских паспортов, что позволило большинству пенсионеров с 2003 г. получать выплаты от Пенсионного фонда РФ. В 2003 г. выросли показатели внешней торговли, где экспорт природных ресурсов (необработанная древесина) и сельскохозяйственной продукции (цитрусовые, хурма, фундук, чай, овощи) достигли в совокупности 90 % (Oltramonti, 2015). Торговля древесиной осуществлялась через государственную компанию «АбхазЛес», монополизированную приближенными первого президента В. Ардзинбы (Lynch, 2001).
К середине 2005 г. активно развивался курортно-туристический бизнес, годовая прибыль от которого оценивалась в 50 млн долл. Однако уровень оказываемых туристических услуг не соответствовал постсоветским реалиям, и, несмотря на установленный в качестве платежной валюты рубль, туристы чаще отдавали предпочтения другим странам (Oltramonti, 2015). В 2005 г. объем промышленной продукции, произведенной предприятиями Абхазии, составил 587,1 млн руб., что существенно превышало показатели 1995 г., когда этот объем был равен 31,1 млн руб.
Основными партнерами во внешнеторговой деятельности оставались Россия, Турция и Румыния, доходы от которой с 10,96 млн руб. в 1994 г. выросли до 3 183,7 млн руб. в 2005 г. Повышение показателей имело место и в доходной части бюджета: с 12,5 млн руб. в 1994 г. до 901 млн руб. – в 2006 г. (Безрукова, Черкезия, 2008).
При наличии ряда экономических активов, которыми располагала Абхазия к 2005 г. (природные ресурсы, сельскохозяйственная база, железнодорожные и автомобильные сообщения с РФ, высокий туристический потенциал), ее фактическое выживание не было бы возможным без российских дотаций (Geldenhuys, 2009), в том числе и благодаря реабилитированным в 2004 г. железным дорогам компанией «Российские железные дороги» (Oltramonti, 2015).
26 августа 2008 г., после окончания «пятидневной войны» и операции России по принуждению к миру, президентом РФ Д.А. Медведевым было принято решение о признании независи- мости Абхазии и установлении дипломатических отношений между двумя государствами1. Несмотря на глобальный и региональный экономический кризис, начиная с 2008 г., поддержка России помогла сохранить и повысить государственный бюджет Абхазии (Comai, 2018). В 2009 г. граждане России составляли 85 % покупателей недвижимости в Абхазии (Kolossov, O'Loughlin, 2011). Одновременно в отношении притока российского капитала среди абхазского населения распространялось мнение об угрозе абхазской идентичности и суверенитету (Comai, 2018).
В 2009 г. впервые были опубликованы данные о валовом внутреннем продукте страны (Baar, Baarová, 2017). В этом же году Абхазия получила от России финансовую помощь в размере 2,36 млрд руб., а в 2010–2012 гг. – до 10,9 млрд руб.
В 2010 г. туризм обеспечил 40 % доходов республиканского бюджета. При этом абхазы, проживающие в России и других странах, осуществляли переводы значительных денежных сумм.
К 2011 г. около 60 % сельскохозяйственных земель были необработанными; многие районы Сухума, а также крупные города Очамчира и Ткварчали оставались в руинах (Kolossov, O'Loughlin, 2011).
Остро сохраняется проблема энергетической безопасности, поскольку экономика Абхазии фактически полностью зависит от функционирования единственной электростанции ИнгурГЭС (Барганджия, 2013).
Размещение российских военнослужащих способствовало экономической реанимации республики. Россия восстановила и обновила инфраструктуру, в частности, главную дорогу от границы с Россией по реке Псоу до г. Сухума. Государственная компания «Российские железные дороги» завершила восстановление 130 километров абхазских железных дорог в середине 2011 г., используя кредит правительства России в размере 2 млрд руб., предоставленный Абхазии. Дополнительно российскими компаниями восстановлен аэропорт в г. Сухуме (Kolossov, O'Loughlin, 2011), однако до сегодняшнего дня Международной организацией гражданской авиации (ICAO) проект запуска аэропорта блокируется2.
В период 2012–2015 гг. более 50 % доходов в бюджет Абхазии поступали из России, без учета помощи в виде пенсий, выплачиваемых непосредственно российским пенсионным фондом местным жителям (Comai, 2018). Развитие производственной и социальной структуры Абхазии с 2015 г. реализуется в рамках трех инвестиционных программ на общую сумму 13 263,79 млн руб. (2015– 2017 гг., 2017–2019 гг., 2020–2022 гг.) (Озган, 2020).
Расходы государственного бюджета Абхазии за 2013–2015 гг. выросли на 22 % (Шатипа, 2016). ВВП республики составил 27 552,3 млн руб., что на 11 % больше прошлогоднего. В структуре ВВП основной удельный вес занимали строительство (25,0 %), торговля (22,2 %), промышленность (8,1 %), связь (4,9 %) и сельское хозяйство (4,8 %) (Колесников, Адлейба, 2020).
С 2013 г. происходит снижение темпов прироста основных социально-экономических показателей, за исключением внешнеэкономической деятельности и собственных доходов бюджета (Шатипа, 2016). В сравнении с 2004 г. частный сектор промышленности к 2014 г. увеличил производство более чем в пять раз, в свою очередь государственный сектор сократился на четверть. С 2014 г. Абхазия значительно уменьшила импорт продуктов питания, а также механического и электрического оборудования, изделий из металла и мебели, но импорт нефти и нефтепродуктов постоянно растет, как и доля импорта в Россию вина и безалкогольных напитков: с 27,5 % в 2010 г. до 86,1 % – в 2015 г.
Второй статьей экспорта стали цитрусовые и другие фрукты, однако их доля значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами. Экспорт различных строительных и других материалов сократился до незначительного уровня. В 2010 г. он составлял половину всего экспорта в Россию, но в 2015 г. он упал ниже 1 %, а стоимость экспортируемых товаров снизилась до сотой доли первоначального показателя (Baar, Baarová, 2017).
В период с 2015 по 2019 г. в структуре внешнеторгового оборота страны сохранялся высокий удельный вес импорта, который составлял от 83 % в 2015 г. и снизился до 77 % в 2019 г., что способствовало формированию платежного баланса страны с существенным дефицитом торгового баланса (Озган, 2020).
Внешнеполитические ориентиры и национальная политика государства-патрона оказывали влияние на социально-экономическое развитие Абхазии. Ярким примером выступила обеспокоенность, возникшая в абхазском обществе в связи с так называемым «собиранием российских земель» в 2014 г. после присоединения Крыма. Это вызвало необходимость переориентации бюджета государства-патрона на более стратегически важные территории в тот период времени1. Однако своего рода гарантом российской поддержки выступил подписанный 24 ноября 2014 г. договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией2.
В 2015–2016 гг. наблюдаются изменения во внешнеэкономической деятельности Абхазии, где на долю России приходится около 85 % внешней торговли республики и почти 15 % – на Турцию, которая потенциально является наиболее значимым «нероссийским» и не признающим суверенитет республики партнером (Baar, Baarová, 2017).
В экономической системе Абхазии к 2016 г. исследователи выявляют ряд структурных перекосов и диспропорций. Отмечается неравномерное развитие регионов республики, что проявилось в «дисбалансах валового объема производства, численности занятого населения, уровне жизни населения, бюджетном финансировании и др.» (Мирцхулава, 2016).
Туристическая сфера продолжает оставаться важной частью в становлении и развитии экономики Абхазии, способствуя снижению уровня безработицы в республике, поскольку уровень занятости среди трудоспособного населения в 2016 г. составлял лишь 28,6 % (Воробьев, Шала-шаа, 2018).
К 2017 г. в республике функционировало более 100 промышленных предприятий, 87 из которых были негосударственными (Лазовская, Минеев, 2019: 95) и в большинстве своем – обществами с ограниченной ответственностью. Именно данная организационно-правовая форма негосударственного предпринимательства являлась наиболее распространенной в республике и составляла в 2018 г. 95 % от общего числа коммерческих организаций (Озган, 2020: 237).
В 2018 г. показатели внешнеторгового оборота возрастают на 1,5 млрд руб. по сравнению с 2017 г., преимущественно благодаря туристическому сектору. Россия сохраняет свою позицию самого крупного торгового партнера (более 60 % товарооборота) (Лазовская, Минеев, 2019). В форме гуманитарной поддержки российское правительство продолжает осуществлять реконструкцию и строительство социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы) (Comai, 2018).
Несмотря на сохраняющуюся в 2020 г. актуальность и важность туристического сектора, а также возможность развития рекреационного туризма, исследователи выделяют проблемы, негативно влияющие на данный сектор экономики. Это отсутствие точных данных о количестве туристов, нехватка квалифицированных кадров, необходимость увеличения продолжительности туристического сезона, преодоление неравномерного социально-экономического развития районов республики, несоответствие материальной базы большинства объектов размещения требованиям по обслуживанию туристов, инфраструктурные проблемы, недостаточность государственного финансирования (Колесников, Адлейба, 2020).
Возникший в 1990-е и 2000-е гг. наиболее существенный раскол между восточным Гальским районом (и соседними Очамчирским и Ткварчельским районами) и остальной частью Абхазии, имевший этническую основу (преобладание грузин/мегрелов, проживающих в Гальском районе) (Oltramonti, 2015), продолжает быть актуальным и в 2020 г. Он проявляется в виде многолетней проблемы с выдачей паспортов жителям Гальского района, что вынуждает последних быть более интегрированными в грузинское общество и государство, где они не только осуществляют покупку товаров, но и получают медицинские и образовательные услуги (Колосов, Зотова, 2022: 18).
При переходе от плановой хозяйственной системы к рыночной экономике в Абхазии действует принцип дуализма в отношении собственности. При сохраняющемся институте государственной собственности в ряде секторов экономики (в первую очередь стратегического значения) формируются институты частной и акционерной собственности. К 2020 г. в Абхазии зарегистрировано со стопроцентным российским капиталом 237 компаний и 241 российско-абхазская компания по различным сферам и отраслям (туризм, строительство, сельское хозяйство, промышленность, торговля и др.).
Е.К. Озган в 2020 г. выделила ряд социально-экономических проблем, влияющих на становление и развитие институтов рыночной экономики Абхазии. Среди них: низкий уровень жизни населения при высоком уровне поляризации доходов, сложная демографическая ситуация, низкий уровень занятости населения, высокая степень износа производственных фондов и стагнация производства, значительная доля теневого сектора экономики, разбалансированный торговый и платежный балансы (отрицательное сальдо), дефицит капитала в финансовом секторе, территориальные диспропорции в социально-экономическом развитии (Озган, 2020).
В рассматриваемые периоды приоритетными внешнеэкономическими ориентирами Абхазии выступали: увеличение экспорта и сокращение импорта, повышение инвестиционной привлекательности страны, оптимизация процессов таможенного контроля и администрирования. Трансформация внешнеэкономических направлений была обусловлена не только изменением международного статуса и расширением возможностей их реализации, но и сохраняющейся внутренней солидарностью среди населения Абхазии в необходимости максимизировать самообеспеченность республики за счет имеющихся природных и промышленных ресурсов.
Заключение . История социально-экономического развития Абхазии подтверждает, что наличие признания, в том числе со стороны государства-патрона, не гарантирует стабильного и успешного экономического развития, а лишь дает новые возможности. В случае постсоветских де-факто государств отсутствие суверенитета является результатом динамики конфликта и преобладающих международных норм, а не «рациональным и прагматичным» выбором, основанным на анализе затрат и выгод.
Примечательно, что при международном статусе де-факто республик экономическая устойчивость не тождественна понятию экономической независимости . Так, история социальноэкономического развития Абхазии свидетельствует, что республика способна к экономической самодостаточности, но без поддержки России она не способна обеспечить тот уровень благосостояния, государственных зарплат и развития, который был достигнут к 2020 г. благодаря российской помощи.
Для де-факто государств постсоветского пространства важным в процессе перехода к рыночной экономике выступает понимание, что ключом к выживанию является устойчивость, а не самообеспеченность. Де-факто республики, не имеющие реалистичной надежды на самостоятельное развитие, сумели обеспечить стабильность, а также уровень благосостояния и общественных услуг своему постоянному населению на протяжении десятилетий, несмотря на почти полную нехватку внутренних ресурсов (Comai, 2018).
В свою очередь, обратной стороной высокой степени вовлеченности государства-патрона в экономику де-факто республик является экономическая и политическая зависимость, которая негативно воспринимается элитами и населением, создавая кризис «суверенности» и способствуя развитию ирредентистских настроений (Себенцов и др., 2022: 487).
Например, в 2019–2020 гг. проведенный опрос среди населения Абхазии в фокус-группах отражал сохраняющиеся ориентиры жителей на большую экономическую автономность от России, необходимость сохранения независимости и суверенитета (Колосов, Зотова, 2022). Таким образом, в противоречие вступает желание сохранять независимость и иметь экономического партнера, но максимизация самоуважения в большинстве своём несовместима с максимизацией доходов или благосостояния.
Список литературы История социально-экономического развития Республики Абхазия в 1992-2020 гг
- Барганджия Г. Ю. Экономическое состояние и ресурсный потенциал Республики Абхазия // Вестник НГИЭИ. 2013. № 7 (26). С. 12–30.
- Безрукова Т.Л., Черкезия И.В. Проблемы и пути развития экономики Республики Абхазия // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2008. № 2. С. 13a–16.
- Воробьев Н. Н., Шалашаа А. З. Роль туристской отрасли в экономике Республики Абхазия // Фундаментальные исследования. 2018. № 3. С. 29–33.
- Колесников А.В., Адлейба А.З. Экономический потенциал территории Республики Абхазия как основа её конкурентоспособности // Научно-методический бюллетень Военного университета МО РФ. 2020. № 1 (13). С. 177–186.
- Колосов В., Зотова М. Экономическое развитие и внутренний суверенитет Приднестровья и Абхазии. 30 лет фактической независимости // Международные процессы. 2022. Т. 20, № 2. С. 6–24. https://doi.org/10.17994/IT.2022.20.2.69.5.
- Лазовская С.В., Минеев С.С. Социально-экономические предпосылки развития экономики Абхазии // Естественно-гуманитарные исследования. 2019. № 25 (3). С. 94–100.
- Мирцхулава И.В. Особенности развития экономики регионов Абхазии // Стратегические ориентиры развития региональной экономики: материалы VII ежегодной международной конференции. Волгоград, 2016. Том 1. С. 275–283.
- Озган Е.К. Внешнеэкономические связи Республики Абхазия как фактор стимулирования экономического потенциала // Внешние связи регионов Юга России: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Адыгейского государственного университета. Майкоп, 2020. С. 39–49.
- Состояние национальной экономики в контексте реализации стратегии социально-экономического развития Абхазии / Х.К. Шатипа [и др.] // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного ун-та им. В.М. Кокова. 2016. № 2 (12). С. 105–114.
- Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии / А.Б. Себенцов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2022. Т. 86, № 4. С. 485–502. https://doi.org/10.31857/S2587556622040094.
- Baar V., Baarová B. De facto states and their socio-economic structures in the post-Soviet space after the annexation of Crimea // Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. 2017. Vol. 6. P. 267–303. https://doi.org/10.18778/2300-0562.06.12.
- Comai G. Conceptualising post-Soviet de facto states as small dependent jurisdictions // Ethnopolitics. 2018. Vol. 17, no. 2. P. 181–200. https://doi.org/10.1080/17449057.2017.1393210.
- Geldenhuys D. Contested states in world politics. NY, 2009. 295 p.
- Kolossov V., O'Loughlin J. After the wars in the south Caucasus state of Georgia: Economic insecurities and migration in the “De Facto” states of Abkhazia and South Ossetia // Eurasian Geography and Economics. 2011. Vol. 52, no. 5. P. 631–654. https://doi.org/10.2747/1539-7216.52.5.631.
- Lynch D. Managing separatist states: A Eurasian case study. Paris, 2001. 34 p.
- Ó’Beacháin D., Comai G., Tsurtsumia-Zurabashvili A. The Secret Lives of Unrecognized States: Internal Dynamics, External Relations, and Counter-recognition Strategies // Small Wars & Insurgencies, Taylor & Francis Journals. 2016. Vol. 27, no. 3. P. 440–466. https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1151654.
- Oltramonti G.P. The political economy of a de facto state: the importance of local stakeholders in the case of Abkhazia // Caucasus Survey. 2015. Vol. 3, no. 3. P. 291–308. https://doi.org/10.1080/23761199.2015.1102452.
- Oltramonti G.P. The political economy of protracted conflicts: Abkhazia, South Ossetia, and violence mitigation // The Caucasus & Globalization. 2012. Vol. 6, no. 1. P. 72–80.
- Pegg S. De facto states in the international system. University of British Columbia. 1998. Working Paper no. 21. 26 p.