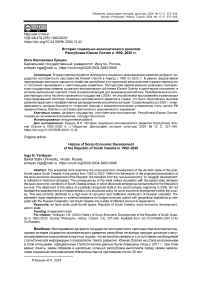История социально-экономического развития Республики Южная Осетия в 1992-2020 гг
Автор: Ерицян Инга Нелсиковна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В представленной работе исследуется социально-экономическое развитие де-факто государства постсоветского пространства Южная Осетия в период с 1992 по 2020 гг. В рамках предлагаемой периодизации эволюции народного хозяйства республики в исторической ретроспективе отражен переход его от состояния «выживания» к «вялотекущему развитию». Последствия первой военной эскалации с материнским государством привели социально-экономическое состояние Южной Осетии в критическое положение, в котором нелегальная торговля стала основополагающей для выживания республики. Приобретенный во втором периоде статус частично признанного государства с 2008 г. не способствовал выстраиванию и реализации структурированной политики социально-экономического развития в стране, что было обусловлено высоким уровнем коррупции и неэффективным распределением российских дотаций. Сохраняющаяся до 2020 г. гиперзависимость доходов бюджета от сторонней помощи и внешнеполитические устремления стать частью РФ привели Южную Осетию к состоянию фактического экономического иждивения.
Де-факто государство, постсоветское пространство, республика южная осетия, социально-экономическое развитие, государство-патрон
Короткий адрес: https://sciup.org/149147089
IDR: 149147089 | УДК: 94(479.225)“1992/2020” | DOI: 10.24158/fik.2024.12.42
Текст научной статьи История социально-экономического развития Республики Южная Осетия в 1992-2020 гг
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия, ,
,
В работе были использованы методы сравнения и сопоставления, системно-эволюционный подход, метод периодизации, выполнен корреляционный и регрессионный анализ статистических данных.
Результаты исследования . Рассматривая историю социально-экономического развития Южной Осетии с момента провозглашения ею своей независимости от материнского государства – с даты принятия Верховным Советом Республики Южная Осетия Акта провозглашения независимости – 29 мая 1992 г.1, мы выделили несколько периодов в этом процессе.
I период – 1992–2008 гг.: период «выживания». После военной эскалации с материнским государством переход от плановой к рыночной экономике осуществлялся в состоянии инфраструктурной разрухи и непризнанной независимости. В данное время отсутствовали легальные рынки сбыта. Экономическая деятельность велась преимущественно нелегально через Эргнетский рынок. Контроль над ним осуществляли югоосетинские полевые командиры, что давало им дополнительные ресурсы, чтобы длительный период времени монополизировать власть в республике, однако закрытие Эргнетского рынка в 2004 г. не решило полностью проблему централизации власти в руках полевых командиров. В данный период страна не была способна выполнять в полной мере свои обязательства перед населением по обеспечению их социально-экономических прав.
II период – 2008–2020 гг.: период «вялотекущего» социально-экономического развития. 26 августа 2008 г. Указом Президента России Южная Осетия признана независимым государством2. Этот факт способствовал заключению и реализации ряда соглашений, большинство из которых были направлены на развитие социально-экономической сферы Республики Южная Осетия. В данный период для нее было характерно «вялотекущее» социально-экономическое развитие, что обуславливалось неэффективным распределением российских дотаций и высоким уровнем коррупции.
III период – 2020 г. – по настоящее время: период стагнации, не охватываемый в рамках представленной работы. Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на социально-экономическое развитие Южной Осетии. В апреле 2020 г. на официальном уровне было принято решение о закрытии границы с единственным экономическим партнером – Россией, что неизбежно привело не только к резкому росту цен в целом, но и к дефициту потребительских товаров. Проблемы ввоза распространялись не только на предметы первой необходимости, но и на высокотехнологическое оборудование для диагностики и лечения COVID-19 из-за отсутствия необходимого разрешения производителей на реэкспорт (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022). И если во второй период отмечалось «вялотекущее» экономическое развитие, для третьего периода характерна стагнация, которой предшествовала вынужденная изоляция.
Изучение социально-экономического развития де-факто государств осложняется отсутствием официальных статистических данных со стороны данных республик. Так, например, ежегодные издания государственной службы статистики Республики Южная Осетия отражают социально-экономические показатели страны только с 2011 г. Ограниченность и недоступность необходимых показателей в целом влияет и на недостаточность научных трудов экономико-торговых аспектов де-факто государств (Suska, 2023).
Приход З. Гамсахурдиа в 1990 г. к власти в Грузии под лозунгом «Грузия для грузин» и применение ряда антисистемных мер в отношении Южной Осетии, таких как лишение автономии, экономическая и энергетическая блокады, неизбежно привели к внутреннему конфликту и эскалации вооруженного противостояния (Алборова и др., 2020). Вооруженные столкновения между Грузией и Южной Осетией с 1989 по 1992 гг. нанесли существенный ущерб экономике последней. В 2 млрд руб. (по ценам 1992 г.) оценивается урон промышленных предприятий, среди которых: Цхинвальская трикотажная фабрика, Цнелисское тальковое предприятие, завод по ремонту электрооборудования, комбинат стройматериалов и др. (Джиоева, 2009). При втором президенте Грузии Э. Шеварнадзе удалось предотвратить военную эскалацию благодаря подписанному 24 июня 1992 г. российско-грузинскому Дагомысскому мирному соглашению3. Оно играло важную роль в предотвращении полномасштабных боевых столкновений до 2008 г., однако не могло полностью искоренить периодически происходившие приграничные обстрелы, избиение и похищение людей, захват заложников и убийства по этническому признаку (Алборова и др., 2020). Вооруженные столкновения в начале 1990-х гг. способствовали существенным миграционным оттокам населения, преимущественно в
Северную Осетию, и даже заключенное соглашение и размещение российского миротворческого контингента в зоне конфликта не способствовали возвращению всех беженцев на прежние места проживания, в том числе из-за сожжённых личных домохозяйств. Послевоенное состояние в республике затрудняло быстрое и эффективное восстановление сельского хозяйства, ущерб которому оценивался 34,2 млрд руб. (в ценах 1992 г.). Дополнительный урон экономике Южной Осетии в результате вооруженного конфликта нанесли разрушенные средства производства, техника, инфраструктура и, как следствие, сокращение рабочих мест и усиление миграционных процессов. Подобная ситуация в реальном секторе экономики усиливала отраслевую и пространственную трудовую миграцию. Помимо внешних факторов социально-экономическое развитие республики было обременено и внутриполитическими разногласиями, обусловленными становлением «военной демократии» и институциональным строительством полевыми командирами в период с 1993 по 1995 гг. (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022).
В середине 1990-х гг. в приграничной зоне между Южной Осетией и Грузией в пригороде Цхинвала недалеко от села Эргнети стихийно сформировался Эргнетский рынок, на котором осуществлялась оптово-розничная торговля товарами народного потребления (например, мукой, молочной продукцией, сигаретами, бензином) (Алборова и др., 2020). Контроль над ним осуществляли югоосетинская и грузинская политические элиты (От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе …, 2004). Неформальная трансграничная торговля на Эргнетском рынке выступала в качестве одного из основных видов доходов (на уровне и выше таможенных сборов) для южноосетинского населения, который со во второй половины 1990-х – начала 2000-х гг. и вовсе был одним из крупнейших на Южном Кавказе (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022). С 1996 г. в республике открываются офисы под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев с целью содействия возвращению вынужденных мигрантов на места прежнего проживания, оказания им гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры страны (Джиоева, 2015). Проблема возвращения беженцев была особо актуальна, поскольку ее не удавалось разрешить вплоть до 1996–1997 гг. (Алборова и др., 2020).
В 1997 г. промышленными предприятиями было произведено товарной продукции на сумму 2 154 тыс. рублей. Такая низкая эффективность работы была связана с тем, что большинство предприятий функционировало не на полную мощность, и параллельно продолжалось восстановление неработающих предприятий (Джиоева, 2015). Экономико-политическая нестабильность, спад производительности, непостоянство денежных потоков и высокий рост инфляции до второй половины 1990-х гг. оказали негативное влияние и на банковскую систему республики. Однако, несмотря на все сложности, Национальному банку Южной Осетии с начала своей деятельности в 1997 г. удалось увеличить капитал, акции и привлечь дополнительные ресурсы (Джикаев, Парастаев, 2004).
Еще в 1993 г. материнским государством было полностью прервано обеспечение республики природным газом, однако в 1999 г. с одной из российских компаний Южная Осетия заключила договор на его поставки, но поскольку осуществлялись они через Грузию, цена за газ существенно увеличивалась1. Несмотря на предпринимаемые усилия по восстановлению промышленных объектов, к 2000 г. большинство из них продолжало простаивать, что было обусловлено сохраняющейся ограниченностью поставок электроэнергии из России и Грузии. Общая стоимость промышленной продукции в 2000 г. составила 10,2 млн руб. при функционирующих Цхинвальском деревообрабатывающем комбинате и нескольких заводах минеральных вод (От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе …, 2004). В 2003 г. бюджетные доходы республики составили 124,64 млн руб. Статьи доходов свидетельствуют, что бюджет страны был гиперзависим от транзитных перевозок Россия – Южная Осетия – Грузия. Почти 62 % приходится на функционирование транспортного коридора «Транскам», соединяющего Россию, Южную Осетию и Грузию. Тем временем доходы от налогов с юридических лиц составили всего 791 тыс. рублей (0,7 % доходов бюджета), с физических лиц – 5,2 млн рублей (4,2 % доходов бюджета) (Джикаев, Парастаев, 2004). Таким образом, республика, напрямую зависящая от таможенных поступлений и налога добавленной стоимости (НДС) на ввозимые товары, с неэффективной кредитной системой ,при которой банки последние несколько лет выдавали средства преимущественно на коммерческие и закупочные операции, характеризующиеся высокими предпринимательскими и кредитными рисками, приводящими к значительной потере ликвидности, не смогла сформировать финансовые институты, способные обеспечить стабильный экономический рост (Джикаев, Парастаев, 2004).
Фактический контроль на Эргнетском рынке осуществляли южноосетинские полевые командиры, однако с августа 2004 г. в результате новой вооруженной эскалации контроль над ним перешел к грузинской стороне. Потери доходов от трансграничной торговли ослабили влияние полевых командиров и внутри республики, что также содействовало централизации власти в Южной Осетии (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022). В целом, период 2003–2004 гг. для республики был наполнен множеством внутриполитических трений в связи с институциональными изменениями. Произошло укрепление института главы государства и реорганизация правительства в противовес фактически сверженному режиму длительно находившимся у власти полевых командиров1.
После закрытия 11 июня 2004 г. Эргнетского рынка грузинскими властями (посредством перекрытия железобетонными блоками)2 Транскавказская магистраль (ТрансКам) продолжала не только оставаться единственной дорогой, которая соединяет Южную Осетию с Россией, но и давала возможность ввозить в страну необходимые для населения товары (Джусоев, Плиев, 2005). Закавказская магистраль являлась основной артерией для перевозки пассажиров и грузов, с этой дорогой связано около 90 % всего местного бизнеса (Джикаев, Парастаев, 2004). Негативно отразилось на уровне жизни граждан республики и прекращение во втором полугодии 2004 г. поставок со стороны международной организации «Всемирная продовольственная программа», которые ранее носили регулярный характер3. Вооруженный августовский конфликт отрицательно сказался на выполнении бюджета 2004 г. первого полугодия, составившего менее 50 % от запланированного. Ущерб оценивался югоосетинскими экономистами в сумму около 8 млн рублей4. Примечательно, что размещенные в республике согласно Дагомысскому соглашению Смешанные силы по поддержанию мира не смогли предотвратить кратковременную, но все же военную эскалацию (Сухов, 2006). После августовской военной эскалации увеличились проблемы в сельском хозяйстве, связанные с существенным износом техники и нехваткой к ней запчастей, дефицитом горюче-смазочных материалов, недостаточностью финансирования, отсутствием необходимого количества посадочного материала, нехваткой специалистов, неполной загрузкой прорабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий; сложностями с полноценным сбытом продукции на территории республики и за ее пределами. Основные расходы из бюджета республики были ориентированы на социальные выплаты, однако значительная часть средств, ежегодно составляющая порядка 60 млн руб., направлялась на кредитование организации «Югосетэнерг», погашающая в свою очередь стоимость электроэнергии, поставляемой ей РАО «ЕЭС», и до 5 млн руб. на кредитование «Югосетгаза». Несмотря на предпринимаемые реконструкционные меры, направленные на улучшение энергосистемы (открытие единого расчетного кассового центра, закупка номерных пломб и другого оборудования), продолжали сохраняться низкие показатели собираемости платы за израсходованную электроэнергию и газ. Руководством республики неоднократно обозначалась необходимость изменения маршрута поставок газа, электро- и водоснабжения напрямую с российской стороны из-за рисков прекращения выполнения Грузией своих обязательств5. Значимым событием мая 2004 г. стало согласованное и утвержденное на уровне власти решение о прокладке Газпромом ветки газопровода от Алагира до Цхинвала, что позволило к 2005 г. повысить количество газифицированных квартир в Цхинвале до 50 тысяч (70 % частного и коммунального жилья в столице)6.
В период с 2001 по 2005 гг. проведенная Россией паспортизация способствовала тому, что существенной статьей доходов населения выступали российские социальные пенсии и пособия (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022). В марте 2006 г. глава Южной Осетии заявил, что 95 % населения республики имеют российское гражданство7. В этот же период работа промышленности оценивалась как убыточная: несмотря на увеличение выпуска товаров и услуг на таких заводах, как «Эмальпровод», «Электровибромашина», а также на пивоваренном заводе, Цхинвальском лесхозе и Полиграфическом объединении, поскольку сократилось производство на Механическом, Молочном и Багиатском наливочном заводе минеральных вод, а работа некоторых предприятий и вовсе была приостановлена (например, химический завод, мясокомбинат, лесокомбинат и др.). Из-за оттока граждан среднего возраста (в основном на заработки) среди населения возрастает число пожилых людей и детей. 2007 г. для Южной Осетии отмечен расширением мероприятий, направленных на укрепление и развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Северной Осетией, а также и с другими субъектами РФ, среди которых Карачаево-Черкесская Республика. По итогам 2007 г. экономика Южной Осетии экспертами оценивается как успешная, что связывают с повышением зарплат бюджетникам, началом работы Цхинвальского лесоком-бината1, прогрессом в аграрной сфере (впервые за последние 20 лет закуплена новая техника, выданы фермерские низкопроцентные кредиты, выделены средства на развитие животноводства и т. д.), ростом госторговли, успешно реализовывались работы на газопроводе Дзуарикау – Цхинвал для прямой поставки газа из России, сдана в эксплуатацию обводная ЛЭП 110 кВт Джава – Зар – Цхинвал; наметились улучшения в банковской сфере (изменение кредитной политики путем сокращения процентной ставки с 60 до 24 %; открытие Коммерческого банка, выдающего кредиты на предпринимательскую деятельность); рост доходов от услуг связи. Но, несмотря на все положительные показатели, Республика Южная Осетия единственная из де-факто государств постсоветского пространства, которая по итогам 2007 г. оставалась фактически на полной дотации России2. До 2008 г. производственный сектор страны был ограничен 22 небольшими фабриками, в большинстве своём работавших только на 10 % мощностей в сравнении с советским периодом, что одновременно сопровождалось проблемами изношенности механизмов и дефицитом квалифицированных кадров (Кривицкий, 2013).
Российский экономический протекторат Южной Осетии с де-факто сменился на де-юре в конце августа 2008 г., после подписания президентом России указа о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. После августовских военных событий перед республикой стояла экзи-стенциональная задача – восстановить разрушенную войной экономику. С 2008 г. российская помощь Южной Осетии оказывалась через Межведомственную комиссию (МВК). Для таких неотложных работ, как восстановление жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, в конце 2008 г. республике было выделено 1,5 млрд руб. Однако выделенные средства и программа, рассчитанная до 2011 г., не могла быть реализована длительный период времени из-за «бюрократической неразберихи» в структуре Южной Осетии, и смогла окончательно сформироваться только к апрелю 2009 г.3 Пятидневная война в августе 2008 г. нанесла серьезный ущерб всему народному хозяйству и населению страны. По оценкам международных экспертов, в результате военных действий в столице Южной Осетии Цхинвале было разрушено около 70 % зданий и сооружений, отмечалось 20 % повреждений инфраструктуры средней и высокой степени тяжести, а в 10 % случаев разрушенное не подлежало восстановлению (Gurieva et al., 2024). С целью возвращения в эксплуатацию 93 проектов социально-экономического значения со стороны России к 2010 г. была предложена финансовая помощь в 6,5 млрд руб. (например, завершение строительства самого высокогорного в мире газопровода Дзуарикау из Северной Осетии в Цхинвал; реконструкция Рокского тоннеля и др.) и дополнительно 2,8 млрд рублей для ликвидации последствий войны. В Южной Осетии приоритетными являются личные и семейные отношения, что отразилось на сферах экономики, ряд которых монополизирован региональными и семейными группировками (Казин, 2009). Укоренившиеся кланово-корпоративные патримониальные отношения и высокий уровень коррупции повлияли на низкие темпы реабилитации экономики республики4.
Накануне запланированных выборов главы государства среди населения Южной Осетии в 2011 г. организации SOCIU (Москва) и СОЦСИ ИСПИ РАН (Владикавказ, РСО) провели социологическое исследование общественного мнения5, по итогам которого были выявлены наиболее актуальные социально-экономические и культурные проблемы страны: безработица (57 %), бедность (32 %), размер зарплаты и пенсии (9 %) и качество образования (8 %). К 2011 г. сохранялась проблема неэффективного распределения российских дотаций, обремененная многочисленностью посредников для их освоения, при сохраняющемся высоком уровне коррупции, что в целом не способствовало эффективному восстановлению экономики Южной Осетии6. Согласно статистическим данным, в 2012 г. в республике было зарегистрировано 719 предприятий и организаций по различным отраслям экономики, что являлось рекордным количеством за весь период существования страны (большинство из них – частные, всего 56 – государственных). Наибольшее число предприятий (210) пришлось на сферу строительства7. Однако количество не определяло качество, что было характерно не только для югоосетинских организаций, но и для российских компаний и субподрядчиков. Большие российские дотации способствовали росту массовой коррупции, особенно в сфере строительства, где было наибольшее количество проектов на реализацию. С 2011 г. схема финансирования отрасли была изменена. Министерство регионального развития России перестало оплачивать работу напрямую строительным фирмам, а начало направлять денежные средства Министерству финансов Южной Осетии, которое впоследствии и работало с подрядчиками (Kolossov, O’Loughlin, 2011). Такие схематические изменения способствовали сокращению количества строительных предприятий и организаций, и в первую очередь недобросовестных.
Важным для экономики республики в 2013 г. стало повторное открытие после капитального ремонта Цхинвальской швейной фабрики (Ушаков, 2019), поскольку это стимулировало промышленное производство, трудоустройство населения и рост экспортных показателей.
С 2015 г. из-за вступления государства-патрона в ЕАЭС возник ряд дополнительных проблем для Южной Осетии, поскольку осложнилось торгово-экономическое взаимодействие страны с Россией. Ряд новых правил, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС по оформлению грузов (сертификация товаров, оформление деклараций и т.д.)1, которые перемещаются через границу, делали весь процесс в целом обременительным и трудновыполнимым для малого и среднего южноосетинского бизнеса (Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии …, 2022). 18 марта 2015 г. подписан российско-югоосетинский договор о союзничестве и интеграции2, который фактически не изменил социально-экономическую ситуацию в Южной Осетии3. Несмотря на рост российских субсидий в 2016 г. до 8,2 млрд руб. (Charaia, 2016), из-за снижения курса они остаются на уровне 2013 г. В целом, оказываемая российская помощь превышает внутренний валовый продукт (ВВП) Южной Осетии в 5–11 раз, а бюджет республики фактически полностью покрывают российские дотации. В 2016 г. показатели уровня официальной безработицы по Республике Южная Осетия достигли максимальных показателей в 4 064 человека4. Динамика «вялотекущего» социально-экономического развития республики сохранялась до 2018 г. Среди актуальных проблем – высокий уровень безработицы (Kulov, Gurieva, 2021). Стоит отметить, что к 2020 г. в Южной Осетии отсутствовало железнодорожное сообщение, что существенно увеличивало значимость Трансмагистрали, жизнеспособность которой зависит во многом от природных катаклизмов (Джиоева, 2008), Рокский тоннель периодически закрывается из-за сильного снегопада и лавин (Kolossov, O’Loughlin, 2011).
Согласно официальным статистическим данным республики, количество сельскохозяйственных предприятий с 40 в 2016 г. выросло до 85 – в 2020 г. Однако одновременно экспертами отмечалось не только снижение абсолютных и относительных показателей занятых в сельскохозяйственном производстве, но и падение производительности труда с 2,3 млн рублей в 2016 г. до 2,1 – в 2020 г. Такая динамика определяется как опасная, поскольку свидетельствует о технико-технологической деградации аграрного сектора республики (Гуриева, Джиоева, 2021). К 2020 г. отмечается сохраняющаяся неспособность страны обеспечить продовольственную безопасность граждан, о чем свидетельствуют высокие показатели нехватки продукции собственного производства для обеспечения потребительских нужд населения Южной Осетии (Тадтаев и др., 2021). В свою очередь югоосетинская промышленная продукция, ориентированная на безальтернативный российский рынок, обременена издержками производства, что делает недоходным масштабное производство (Особенности политического и экономического развития Республики Южная Осетия …, 2022).
ВВП страны за 9 лет с 2011 г. по 2020 г. вырос в 6,4 раза с 961 081 рублей до 6 166 612 рублей. При этом сохраняется критическая зависимость бюджета от российских дотаций. Согласно статистическим данным, по итогам 2020 г. налоговые и неналоговые доходы государства составили 7 674 475 рублей, из которых лишь 1 372 226 рублей – это средства госбюджета без финансовой помощи, соответственно, около 82 % доходов составляет российская финансовая помощь. Аналогичная ситуация складывалась в 2013 г., когда налоговые и неналоговые доходы в целом составили 6 517 625 рублей и из них лишь 461 636 – собственные. Численность наличного населения по состоянию на 2020 г. насчитывала 56 405 человек, что несущественно, но больше в сравнении с 2011 г. на 3 583 человек. В 2020 г. официальная статистика безработных зафиксировала 1 637 человек, что свидетельствует о сокращении их количества почти в 2,5 раза в сравнении с 2016 г., в котором показатели были равны 4 064 человеку5.
Российские дотации, безусловно, положительно влияют на социально-экономическое развитие республики, однако множество проблем продолжает сохраняться фактически во всех отраслях народного хозяйства. Так, простой в сельском хозяйстве обусловлен нехваткой специализированной техники для обработки земли. Аграрная продукция на внутреннем рынке закрывает запрос граждан только на 20 %. В свою очередь экспортное направление ее излишков в Россию (например, яблоки, персики) нерентабельно в силу высоких тарифных ставок. Продовольственная безопасность страны в целом находится в зоне высоких рисков и угроз (Gurieva et al., 2024).
Ситуация в промышленном секторе схожа с сельскохозяйственным. При статистических показателях роста производства в период с 2014 по 2018 гг., фактически предприятия запустили лишь 10 % от своих возможных мощностей. Низкий уровень развития имеет и сфера услуг, исключением выступает строительство, которое полностью находятся на российском финансировании. Туристический сектор также не имеет высоких показателей, ежегодно Южную Осетию посещают лишь несколько тысяч туристов (Suska, 2023). Отсутствие прямых воздушных сообщений, и в первую очередь с государством-патроном, увеличивает стоимость поездок в Южную Осетию, что дополнительно препятствует развитию туристической сферы, которая в силу климатических условий могла бы стать важным и существенным источником поступлений в бюджет страны. Статус частично признанного государства оставляет актуальной проблему отсутствия должного инвестирования экономики Южной Осетии, формируя у инвесторов опасения о возобновлении военной эскалации и, соответственно, потери бизнеса без последующей компенсации. Одновременно низкая инвестиционная привлекательность обусловлена и периодическими внутриполитическими кризисами, которые характерны для республики (Особенности политического и экономического развития Республики Южная Осетия …, 2022).
Заключение . Южная Осетия и Абхазия, отделившиеся от одного общего материнского государства Грузии и получившие по итогам пятидневной войны в 2008 г. признание от Российской Федерации, которая выступает для каждой из них государством-патроном, существенно различаются в своих внешнеполитических ориентирах, что также, как представляется нам, повлияло на их социально-экономическое развитие в целом и сотрудничество с Россией в частности. Южная Осетия пришла к состоянию фактического экономического «иждивения». Республика на протяжении всего своего существования стремится стать частью Российской Федерации, что проявляется не только во внешнеполитическом курсе ее правительства, но и в общественном мнении среди большинства населения страны (Ambrosio, 2016). Высокая зависимость бюджета страны от российских дотаций и восприятие своего будущего исключительно в составе государства-патрона способствуют укоренению «иждивенческого» экономического поведения Южной Осетии. Таким образом, общность исторической судьбы не стала предопределяющей в выборе пути социально-экономического развития южно-кавказских де-факто республик постсоветского пространства.
Список литературы История социально-экономического развития Республики Южная Осетия в 1992-2020 гг
- Алборова Д.Г., Койбаев Б.Г., Галкина Е.В. Договор о неприменении силы как фактор влияния на вопросы безопасности в системе международных отношений (на примере грузино-осетинского конфликта и конфликтов в Европе) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25, № 3. С. 129-139. https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2020.3.11.
- Гуриева Л.К., Джиоева И.К. Итоги развития аграрного комплекса Республики Южная Осетия // Региональные проблемы преобразования экономики. 2021. № 12 (134). С. 53-64. https://doi.org/10.26726/1812-7096-2021-12-53-64.
- Джикаев В., Парастаев А. Южная Осетия: связь между экономикой и конфликтом // От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе. Лондон, 2004. С. 212-246.
- Джиоева И.К. Ворота Кавказа и рыночная экономика. Особенности рыночной инфраструктуры приграничного региона // Российское предпринимательство. 2008. № 10-2. С. 104-108.
- Джиоева И.К. Исходные условия рыночной трансформации в Республике Южная Осетия // Научный альманах. 2015. № 8 (10). С. 117-123. https://doi.org/10.17117/na.2015.08.117.
- Джиоева И.К. Трансформация экономики приграничного региона на примере Южной Осетии // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 23. С. 20-23.
- Джусоев Р.И., Плиев А.Г. Поиски путей урегулирования конфликта // Вестник Института цивилизации. 2005. № 6. С. 89-103.
- Казин Ф.А. Взаимоотношения России с Южной Осетией и Абхазией в сравнительной перспективе // Полис. Политические исследования. 2009. № 1. С. 130-142.
- Кривицкий В.О. Анализ эффективности экономической поддержки Российской Федерации, оказываемой Республике Южная Осетия // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № S28. С. 3-11.
- Особенности политического и экономического развития Республики Южная Осетия / А.И. Суздальцев [и др.] // Псковский регионологический журнал. 2022. Т. 18, № 3. С. 19-36. https://doi.org/10.37490/S221979310021328-3.
- От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе / под ред. Д. Кляйн, Н. Миримановой, Ф. Шампейна. Лондон, 2004. 286 с.
- Сухов И. «Зона КТО» и ее окрестности // Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4, № 1. С. 114-129.
- Тадтаев Д.М., Харебов Е.Ю., Гладилин А.В. Роль малого бизнеса в обеспечении продовольственной безопасности Республики Южная Осетия // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 4 (85). С. 123-128. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.4.15.
- Ушаков С.В. Промышленный потенциал республики Южная Осетия - государство Алания // Инновационная наука. 2019. № 9. С. 54-63.
- Экономическое развитие как вызов для «государств де-факто»: постконфликтная динамика и видение перспектив в Южной Осетии / А.Б. Себенцов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2022. Т. 86, № 4. С. 485-502. https://doi.org/10.31857/S2587556622040094.
- Ambrosio T., Lange W.A. The Architecture of Annexation? Russia's Bilateral Agreements with South Ossetia and Abkhazia // Nationalities Papers. 2016. Vol. 44, iss. 5. P. 673-693. https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1203300.
- Charaia V. Economics of Conflict: Core Economic Dimensions of the Georgian - South Ossetian Context // International Journal of Humanities and Social Sciences. 2016. Vol. 3, iss. 10. P. 3327-3331.
- Gurieva L., Kaberti N., Kulov A. Compliance of Migration Sentiments of the South Ossetia Population of Rural Areas with the UN Sustainable Development Goals: Analysis of Social Factors // E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 474. P. 03019. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447403019.
- Kolossov V., O'Loughlin J. After the Wars in the South Caucasus State of Georgia: Economic Insecurities and Migration in the «De Facto» States of Abkhazia and South Ossetia // Eurasian Geography and Economics. 2011. Vol. 52, iss. 5. P. 631-654. https://doi.org/10.2747/1539-7216.52.5.631.
- Kulov A.R., Gurieva L.K. Formation and Development of Innovative Agricultural System of the Republic of South Ossetia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 650, iss. 1. P. 012010. https://doi.org/10.1088/1755-1315/650/1/012010.
- Suska M. Merchandise Trade of the Unrecognized Entities in West Asia. The Gravity Model of Trade, Including Abkhazia and South Ossetia // International Journal of Management and Economics. 2023. Vol. 59, iss. 1. P. 57-69. https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0029.