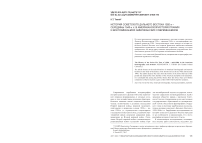История советского Дальнего Востока 1920-х-середины 1940-х гг. в американской историографии и воспоминаниях американских современников
Автор: Тихий Константин Теодорович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 3 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены основные направления в изучении истории советского Дальнего Востока периода 1920-х - середины 1940-х гг. в историографии и мемуарной литературе США. Автор анализирует, какие сюжеты из истории советского Дальнего Востока этого периода привлекали наибольшее внимание американских журналистов и исследователей и приходит к выводу, что среди приоритетных тем всегда присутствовало приграничное сотрудничество дальневосточного региона СССР со странами тихоокеанского бассейна.
Советский дальний восток, американская историография, американские жу рналисты, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/170175714
IDR: 170175714 | УДК: 32.019.5(571:73):94(73)”19” | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-3/105-110
Текст научной статьи История советского Дальнего Востока 1920-х-середины 1940-х гг. в американской историографии и воспоминаниях американских современников
Современная зарубежная историография истории советского Дальнего Востока межвоенного периода формировалась в сложных условиях и под воздействием различных факторов. Большое значение имели социально-экономические, политические и духовные последствия Первой мировой войны, мировой экономический кризис и депрессия в конце 1920-х - начале 1930-х гг, строительство тоталитарного государства в Советском Союзе, углубление противоречий между ведущими державами мира, приведших ко Второй мировой войне. Окончание Второй мировой войны ознаменовалось развязыванием новой «холодной» войны. Кри зис неолиберальной модели государства, повсеместное укрепление неоконсервативных идей в западном обществе наряду с распадом Советского Союза и становлением на его месте новых государственных образований на демократической основе обусловили формирование очередного этапа в изучении зарубежными исследователями истории советского Дальнего Востока в 1920-1940-е гг. Зарубежным исследованиям по истории советского Дальнего Востока присущи те же особенности и периодизация, что и историографии истории Советского Союза.
В отечественных исследованиях, посвященных анализу работ советологов, выделяют два больших этапа. В основе такой градации лежит внешняя критика источников. В соответствии с этим выделяют два больших периода: с 1920-х гг. по 1950-е гг. и с 1960-х гг. по настоящее время. Первый этап представлен в основном публицистикой и мемуарными произведениями. Эта литература нередко носит полуисследова-тельский характер, но не претендуют на роль научной историографии. Второй этап связан с появлением комплексных работ по конкретным темам, основанных на привлечении самых разнообразных материалов, в том числе и тех, которые по ряду причин ранее были недоступны для зарубежных исследователей.
Следует также учитывать особенности зарубежных школ советологии. Так, например, отличие американской и английской советологии заключается в том, что антикоммунизм наложил отпечаток, прежде всего, на американское советоведение. Не случайно поэтому, что консервативные историки, такие, например, как Р. Конквест, покидали Англию и уезжали работать в США. Особенность американской методики исследования источников заключалась в привлечении ограниченного круга источников для поддержки заранее сформулированных идеологических концепций.
В советологии условно можно выделить два основных направления: «государственническое» и «новая социальная история». Последователи первого признают определяющую роль государства в российской истории. Отсюда их интерес к органам новой власти, партиям, политическим лидерам и т.п. Сторонники второго направления делают акцент на значимости социальных сил, культуры, традиций в становлении советского общества. При этом они часто обращаются к источникам неофициального происхождения.
Оба эти направления присутствуют в разной пропорции в исследованиях по истории Советского Союза на всех этапах развития советологии. Преобладание того или иного направления определялось действием различных - как внутренних, так и внешних - факторов. Так, в американской историографии советской истории межвоенного периода первая половина 1920-х гг. характеризовалась обращением, прежде всего, к вопросам государственного строительства, эффективности управления страной, роли большевистской партии в политической жизни СССР и т.д. С началом «великой депрессии» западные обозреватели и исследователи стали больше уделять внимания проблемам со циального развития советского общества, его культурной, духовной жизни. Начало очередной волны массовых политических репрессий в СССР с середины 1930-х гг., заключение договоров Советского Союза с Германией в 1939 г. советско-финская война поставили вопрос о сущности советского государства, его внутреннем сходстве с другими тоталитарными государствами.
Становление зарубежной историографии истории Дальнего Востока России, подчиняясь общим закономерностям становления и развития советологии, имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, большую роль играла отдаленность Дальнего Востока от центральных областей России. Основная масса иностранцев, как правило, прибывала в Советский Союз с западного направления. Поэтому события на Дальнем Востоке не нашли должного внимания в зарубежной мемуаристике и публицистике.
Вторая причина заключалась в том, что за исключением непродолжительных периодов в середине 1920-х гг. и на рубеже 1920-х - 193 0-х гг. въезд в страну иностранных граждан был искусственно ограничен. Приезжие интересовались, прежде всего, социальными проблемами. При этом круг их путешествий традиционно ограничивался посещением центральных областей России с городами Москва, Ленинград, Киев, Горький [19, р. 219].
Дальний Восток удалось посетить немногим иностранцам. Дальневосточный регион не относился к районам с развитой инфрастукту-рой. Его научно-культурные центры были несопоставимы с теми, которые имелись в европейской части СССР. Планы второй пятилетки предусматривали строительство большого количества оборонных предприятий к востоку от Урала, в том числе и на Дальнем Востоке. Запретный режим для посещения иностранцами крупных промышленных центров советского Дальнего Востока сохранился на многие десятилетия.
Большая часть иностранцев ехала на Запад по Транссибирской железной дороге, что предоставляло ограниченные возможности для полноценного ознакомления с советским Дальним Востоком. Отрывочные, поверхностные сведения о том, что собой представлял этот отдаленный край, характерны для большинства публицистических и мемуарных произведений межвоенного периода [3; 5; 7; 14; 17; 18; 21].
Многие из туристов по определенным причинам остались вполне удовлетворенными поезд- кой. Так, например, афроамериканцы Хуанита Харрисон и известный поэт Джеймс Хьюз (Юз) стали объектами особого внимания со стороны местных властей, которые в силу своего положения не могли не подчеркивать своих симпатией к ним как к представителям «наиболее угнетаемой капиталом» части американского общества [8; 10]. Линтона Уэллса, корреспондента информационного агентства У.Р. Херста, ранее побывавшего в России в 1914 г. и 1919-1920 гг., в 1926 гг. приятно удивила чистота и порядок на железнодорожных вокзалах и перронах [27, р. 25]. Всем без исключения иностранцам устроители туров предоставляли вполне сносные условия для поездок.
Однако основу первых зарубежных исследований по истории советского Дальнего Востока составили не столько путевые заметки этих случайных заезжих очевидцев, сколько работы профессиональных зарубежных журналистов, проживавших в Москве. Приехав в Советскую Россию для освещения деятельности Американской администрации помощи (American Relief Administration) в 1921 г., некоторые из них пробыли здесь с небольшими перерывами до второй половины 1930-х гг. Ограниченные возможности передвижения по стране не способствовали всестороннему освещению событий во всех регионах России. Преимущество отдавалось темам общего характера: внутрипартийная борьба, отношения между государством и церковью, советская внешняя политика и Коминтерн и т.д.
Оценки событий в СССР во многом определялись не только позицией редакции или владельца издания, но и личным отношением авторов к проблеме. Они, в свою очередь, могли варьироваться от консервативного до умеренного либерального и даже радикального спектра. Деятельность советского правительства в социально-экономической, политической, духовной сфере вызывала крайне противоречивые оценки в межвоенные годы.
Соответствующим был и вклад таких публицистов в зарубежную историографию. Примером могут служить работы корреспондента газеты «Крисчен Сайенс Монитор» У.Г. Чемберлина. В своем раннем произведении «Советская Россия. Современная хроника и история» он не отрицал возможности применения террора для достижения целей коллективизации. Автор полагал, что национализация земли создает фундамент экономической свободы, которая гораздо важнее, чем ограничение индивиду альной свободы [1, р. 396-397]. Несколько лет спустя в своем основном труде о Советском Союзе УГ. Чемберлин уже утверждал, что именно гражданские свободы имеют жизненную важность, а их наличие или отсутствие служит критерием цивилизованности государства [2, р. 377].
Зарубежные исследователи рассматривали различные сюжеты из истории советского Дальнего Востока. Для работ 1920-х - 1940-х гг. приоритетными были такие темы, как приграничные политические отношения Советского государства с Китаем, Японией и Соединенными Штатами, а также перспективы экономического сотрудничества дальневосточного региона России со странами тихоокеанского бассейна. Сами западные исследователи объясняют это следующим образом: «История советского Дальнего Востока, как предмет исследования российской и советской исторической науки, относительно малоизвестна, за исключением тех областей, на которых оставили свой отпечаток иностранные державы. То, что происходит на советском Дальнем Востоке, понимается сквозь призму взглядов Москвы на положение в бассейне Тихого океана и ее влияния на будущее СССР в целом» [13, р. XI].
Вторая причина пристального внимания зарубежных исследователей к советскому Дальнему Востоку заключается в понимании важности этого региона в масштабах международной экономической интеграции. Особенно ясным это стало в годы Второй мировой войны. «Признание Советского Союза частью Дальнего Востока, - писал профессор У. Мандель, - основывается не только на нуждах военного времени и том географическом факте, что советская территория лежит к северу от Амура, но также и на взаимодействии экономик, которое поможет, наконец, закрыть разрыв между Востоком и Западом» [13, р. VIII].
Одним из направлений в исследованиях зарубежных авторов был анализ социально-экономического положения в различных регионах советского Дальнего Востока. Так, например, межвоенному развитию Сахалина посвятили свои работы Полтни Байглоу, Уильям Г. Чемберлин, Маргарет Харрисон. Хотя в целом следует признать, что эти работы не оставили серьезного следа в зарубежной историографии истории советского Дальнего Востока. Позиция авторов по ряду проблем носит предвзятый характер. Это особенно очевидно в оценке японской оккупации Южного Сахалина. Как известно, в советской историографии она неизменно оценивалась критически. Однако в трудах западных авторов, особенно в 1920-е - 1940-е гг. нередко встречались высказывания противоположного характера. Так, в русле японской историографии может расцениваться утверждение американской журналистки М. Харрисон о том, что «высшие слои польского и русского населения» Сахалина «приняли японцев как наименьшее из двух зол, т.к. они, по крайней мере, восстановили закон и порядок» на острове [9, р. 40].
Вторая мировая война оставила значительный след в англоязычной историографии советского Дальнего Востока. Поставки Советскому Союзу по линии ленд-лиза, в том числе и через советский Дальний Восток, отразились в большом количестве воспоминаний американских современников [4; 6; 12; 13; 15; 20; 26]. Американцев интересовало, что Советская Россия может предоставить американцам в плане расширения двусторонней торговли, индустриализации Сибири, приведет ли открытие и разработка новых сырьевых ресурсов к повышению уровня жизни населения советского Дальнего Востока [16, р. 3].
Большой интерес представляли возможности выгодного воздушного сообщения США с Европой через советский Дальний Восток. Рассматривались возможности строительства туннеля через Берингов пролив. Из всех субъектов Дальнего Востока особенно выделялся Приморский край в силу умеренного климата и наиболее развитой по сравнению с другими дальневосточными регионами промышленностью. Примечательно, что уже в то время зарубежные исследователи отмечали, что в силу конкуренции едва ли возможны торговые отношения между США и СССР в лесной и рыбной промышленности [16, р. И].
После окончания Второй мировой войны, с началом «холодной войны» возникла огромная лакуна в зарубежных исследованиях по истории советского Дальнего Восток межвоенного периода. Как о Сахалине, так и о других регионах дальневосточного материка до начала 1970-х гг. первоисточники для зарубежных исследователей были закрыты.
В связи с этим большим вкладом в зарубежную историографию можно считать исследование известного американского специалиста по истории Дальнего Востока Дж. Стефана «Сахалин: история», вышедшее в свет в 1971 г. [22]. В этом труде была предпринята попытка взвешенного анализа исторического развития Сахалина. На основе современных публикаций на японском, русском, китайском, немецком, английском и польском языках автору удалось представить многогранную историю Сахалина. Дж. Стефан подверг справедливой критике советскую историографию, которая по политическим причинам всячески принижала роль Японии в истории освоения Сахалина [22, р. 2]. Автор приводит свидетельства вклада Японии в развитие рыболовства, угольной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в южной части острова. Показательно, что начиная с 1924 г. японское правительство ужесточило контроль над массовой вырубкой леса [22, р. 88-89]. С другой стороны, Дж.Стефан не идеализирует и японское правление: в школах повсеместно вводилось изучение японского языка, выкупались русские дублирующие производства, ввозилась дешевая рабочая сила из Кореи и т.д. [22, р. 104]. Символична оценка, данная американским исследователем выводу японских войск из Северного Сахалина без использования военной силы. Это событие рассматривается им как «блестящая победа советской дипломатии» [22, р. 106]. Работа Стефана о Сахалине впервые опиралась одновременно и на советские, и на японские публикации. Следует отдать должное американскому специалисту, которому пришлось преодолевать практически полный разрыв между советской и японской школами изучения истории Сахалина [22, р. V].
Три года спустя Дж. Стефан опубликовал интересное исследование, посвященное Курильским островам [23]. В нем автор утверждает, что Курилы изначально рассматривались Японией как составная часть метрополии. Хотя морепродукты были основой экономики для айнов, японцев и русских в равной степени, именно японцы рационально эксплуатировали эти ресурсы, регулярно инвестируя в эту отрасль капитал, привлекая людские ресурсы и современную технологию. 1930-е гг, по замечанию Стефана, стали «золотым веком» рыболовства на Курилах [22, р. 119, 122-123].
Начиная с середины 1980-х гг. существенно меняется тематика зарубежных исследований. Авторы отдают предпочтение анализу перспектив экономического и политического взаимодействия СССР и США в бассейне Тихого океана. Одной из таких работ, исследующих историю российско-американских отношений на протяжении двух столетий, стала коллектив- ная монография отечественных и американских ученых «Советско-американские горизонты на Тихом океане» [25]. В одной из статей сборника рассматриваются различные сюжеты советско-американских торгово-экономических контактов на Дальнем Востоке, динамика и номенклатура экспорта и импорта в товарообороте между США и советским Дальним Востоком в межвоенный период [25, р. 61-83].
В 1994 г. из под пера профессора Стэнд-фордского университета Дж. Стефана вышла очередная работа «Российский Дальний Восток. История» [24]. Большая часть этого исследования посвящена истории Дальнего Востока в межвоенный период. Характерно, что в отличие от предыдущих работ зарубежных исследователей автор значительное внимание уделил политическим процессам, происходившим в Советской России. Он анализирует взаимоотношения между центром и дальневосточной периферией, особенности политических репрессий на Дальнем Востоке, хозяйственное строительство и т.д. Вероятно, на сегодняшний день это единственный американский обобщающий труд по истории советского Дальнего Востока.
Условия «перестройки» в СССР позволили зарубежным авторам привлечь ранее не опубликованный статистический и фактический материал и отойти от традиционных стереотипов и идеологической ангажированности. Исторические сюжеты взаимоотношений российского Дальнего Востока с соседями по азиатско-тихоокеанскому региону рассматриваются в совместном российско-американском сборнике «Вновь открывая Россию в Азии. Сибирь и русский Дальний Восток» [И]. Таким образом, в американской историографии накоплен довольно большой круг исследований по истории советского Дальнего Востока, который может представлять значительный интерес для отечественных специалистов.
Список литературы История советского Дальнего Востока 1920-х-середины 1940-х гг. в американской историографии и воспоминаниях американских современников
- Chamberlin, W.H., 1930. Soviet Russia. A living record and a history. Boston: Little, Brown and Co.
- Chamberlin, W.H., 1934. Russia’s Iron Age. Boston: Little, Brown and Co.
- Cravath, P.D., 1931. Letters home from the Far East and Russia. Garden City.
- Davies, R. and Steiger, A.J., 1942. Soviet Asia: democracy’s first line of defense. New York: Dial Press.
- Goldman, B., 1934. Red road through Asia. A journey by the Arctic Ocean to Siberia, Central Asia and Armenia; with an account of the peoples now living in those countries under the hammer and sickle. London: Methuen.
- Gruber, R., 1944.1 went to the Soviet Arctic. New York: Viking.
- Harris, A., 1939. Eastern visas. London: Collins.
- Harrison, J., 1936. My great, wide, beautiful world. New York: Macmillan.
- Harrison, M.E., 1924. Red bear, yellow Dragon, and American lady. Literary Digest, April 19, pp. 38-44.
- Hughes, J.L., 1956. I wonder as I wander. An autobiographical journey. New York: Hill and Wang.
- Kotkin, S. and Volff, D. eds., 1995. Rediscovering Russia in Asia. Siberia and the Russian Far East. New York: Routledge.
- Lenguel, E., 1943. Siberia. New York: Random House.
- Mandel, W. ed., 1944. The Soviet Far East and Central Asia. New York: Institute of Pacific Relations.
- Matters, L., 1932. Through the Kara Sea. The narrative of a voyage in a tramp steamer through arctic waters to the Yenisei River. London: Skeffington & son, ltd.
- Moore, H.L., 1945. Soviet Far Eastern policy, 1931-1945. Princeton: Princeton University Press.
- Mosse, R. ed., 1944. Soviet Far East and Pacific Northwest. Seattle: University of Washington Press.
- Munday, M.C., 1935. Far East. London: Stanley Paul and Co.
- Murchie, G., 1932. Men in the horizon. Boston: Houghton Mifflin.
- Nerhood, H.W., 1968. To Russia and return. An annotated bibliography of travelers’ English-language accounts of Russia from the ninth century to the present. Columbus: Ohio State University Press.
- Rhodes, H.W., 1944. Russia: the coming power in the Pacific. Wellington: Progressive Publishing Society.
- Smolka, H.P., 1937. 40,000 against the Arctic: Russia’s polar empire. New York: William Morrow and Co.
- Stephan, J.J, 1971. Sakhalin: a history. Oxford: Oxford University Press.
- Stephan, J.J, 1974. The Kuril Islands: Russian-Japanese frontier. Oxford: Oxford University Press.
- Stephan, J.J, 1994. The Russian Far East: a history. Stanford: Stanford University Press.
- Stephan, J.J. and Chichkanov, V.P. eds., 1986. Soviet-American horizons on the Pacific. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Wallace, H., 1946. Soviet Asia mission. New York: Reynol & Hitchcock.
- Wells, L., 1937. Blood on the moon. The autobiography of Linton Wells. Boston: Houghton Mifflin.