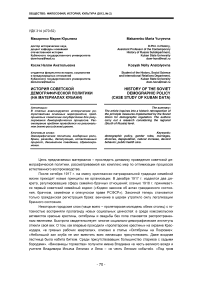История советской демографической политики (на материалах Кубани)
Автор: Макаренко Мария Юрьевна, Косяк Нелли Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется историческая ретроспектива основных мероприятий, предпринятых советским государством для регулирования демографических процессов. Рассмотрение проблем проводится на региональном (южно-российском) уровне.
Демографическая политика, гендерные роли, браки, разводы, депопуляция, естественный прирост, девиантное поведение, здравоохранение
Короткий адрес: https://sciup.org/14940500
IDR: 14940500 | УДК: 314
Текст научной статьи История советской демографической политики (на материалах Кубани)
Цель предлагаемых материалов – проследить динамику проведения советской демографической политики, рассматриваемой как комплекс мер по оптимизации процессов естественного воспроизводства.
После октября 1917 г. на смену христианско-патриархальной традиции семейной жизни приходят новые принципы ее организации. В декабре 1917 г. издаются два декрета, регулировавшие сферу семейно-брачных отношений; осенью 1918 г. принимается первый советский семейный кодекс («Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР»). Законной теперь становится только гражданская регистрация брака: венчание в церкви утратило силу легализации брачного состояния.
Некоторые городские слои (чаще всего – пролетарская молодежь обеих столиц) с готовностью восприняли пропаганду новых социальных ценностей: в среде комсомольских активистов красные крестины, октябрины и свадьбы без попа становятся распространенным явлением. Быстрота свидетельствует: многие социально-демографические институты отжили свой век. О том, как впервые проходили «пролетарские крестины» на окраине Краснодара, «в грязных рабочих кварталах», описано в статье «Октябрины на Покровке»: «Небольшой зал клуба не мог вместить всех желающих присутствовать. Даже входная лестница была набита битком. Среди присутствовавших большинство стариков с седыми бородами». «Виновницы торжества» получили имена Владиана «в честь великого вождя и учителя Владимира Ильича Ленина» и Лена – «в честь Ленских событий». «Под гром несмолкаемых аплодисментов» новорожденные (курсив наш. – М.М., Н.К.) девочки «зачисляются в члены клуба, члены антирелигиозного кружка и в отряды юных пионеров» [1].
Подобные торжества гораздо в меньшей степени были характерны для станичной повседневности. Крестьяне часто расценивали новый кодекс как «проект многобрачия и многоженства». Однако постепенно «революционные преобразования» брачно-семейных отношений проникают и в станичную повседневность: «первые ласточки новобытовской весны» (красные крестины, октябрины, свадьбы «без попа») отвоевывали место под солнцем. Высоко оценивая происшедшие перемены, автор статьи «Новый быт в станице», опубликованной в «Красном знамени», пишет: «Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас, в 1924 году, какой-нибудь из старорежимных атаманских зубров, один из тех, которые так любят организовывать теперь различные «кубанские землячества», казачьи рады и круги на берегах Шпреи или Сены и предаваться воспоминаниям «о добром старом времени» в кабачках Белграда, Софии, Праги и Парижа, чтобы сейчас один из этих кубанских выкидышей заглянул на минутку в нынешнюю советскую станицу» [2]. Подтекст этих восторженных рассуждений – станица изменилась неузнаваемо. Можно, конечно, предположить, что размах происшедших перемен несколько преувеличен, однако трудно представить, что подобные восторги основывались исключительно на пустом месте.
Упрощалась процедура развода, что привело к их бурному количественному росту. В Краснодаре в 1920 г. на 1 развод приходилось 29 браков; в 1921 г. – 23; в 1923 г. – 13; в 1924 г. – 10; в 1925 г. – 4. Исключением, нарушающим тенденцию, является 1922 г.: зарегистрировано только 15 разводов (то есть на один развод приходилось 106 браков). Объясняется это, вероятно, переживавшимся Краснодаром экономическим кризисом [3, с. 163–171].
Самыми недолговечными оказались союзы, оформленные после упрощения процедуры бракосочетания: из общего числа разводов, оформленных за 1925 г., 78,6 % падает на браки, заключенные после 1920 г. [4].
С позиций официальной власти изменение законодательства проводилось в интересах слабого пола, но воспользовались им скорее мужчины. Женщина же, по сути, стала жертвой новых законов, оказываясь в случае развода практически без средств к существованию, поскольку большинство не работали, занимаясь домашним хозяйством и уходом за детьми. Появляются случаи двоеженства. Один из них описан на страницах кубанской газеты: красноармеец войск ГПУ привлекается к ответственности за вступление во второй брак без оформления развода в первом. Подсудимый старался доказать, что первый брак, как заключенный в 1915 г., «не должен быть признан действительным». Мужчина приговаривается к году заключения без строгой изоляции, а «ввиду его происхождения из беднейших крестьян срок наказания уменьшен до 1 месяца» [5].
Хотя начиная с 1920 г. аборты и были разрешены, все же огромное их количество производилось подпольно. Причина – сохранение социетального контроля за рождаемостью, ожидаемая негативная реакция общественного мнения. В 1920 г. только легальных абортов было проведено 1218, в 1925 г. – уже 2307 (или 50 % рождений) [6]. Показатели «стыкуются» с данными Окрздравотдела: за 9 месяцев 1925 г. выдано 2095 разрешений на аборты [7, с. 12–14]. На «усиленное применение мер искусственного предупреждения деторождения» еще в годы Первой мировой войны указывает Д. Мерхалев, подчеркивая, что меры, являющиеся в мирное время «привилегией» городов, находят теперь (в 1920-е гг. – М.М., Н.К . ) широкое распространение и в деревнях [8].
С первых лет существования новая власть была озабочена проведением мер (прежде всего – борьбой с эпидемическими заболеваниями) по оптимизации медикосанитарной ситуации. В 1918 г. образован наркомат здравоохранения РСФСР. Прави- тельство поставило перед руководством отрасли непростую задачу – в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовую базу реорганизованной системы здравоохранения. Сотрудники ведомства с энтузиазмом приступили к работе. В целях усиления эффективности деятельности Екатеринодарский горздравотдел в середине августа 1920 г. был соединен с Кубано-Черноморским областным отделом здравоохранения [9]. Через две недели, в конце августа 1920 г. приказом областного отдела здравоохранения ликвидируется существовавший при учреждениях здравотдела институт политкомов [10].
В годы нэпа снижение смертности в той или иной степени происходило практически во всех регионах Советского Союза. В 1911–1913 гг. на территории образованного в 1924 г. Кубанского округа смертность составляла 2,8 %, в 1926 г. – 2,1 %. Особенно четко тенденция проявилась в Екатеринодаре-Краснодаре: показатель сократился в 2 раза: 3,2 % в 1911–1913 гг. и только 1,6 % в 1926 г. [11, c. 14]. Сокращение коэффициента происходило в основном за счет снижения смертности детей в возрасте до 5 лет, что объяснялось, по мнению современников событий, отчасти причинами экономического и социального характера, отчасти – мерами медико-профилактическими [12].
19 ноября 1926 г. постановлением ВЦИК «в целях урегулирования правовых отношений, вытекающих из брака, семьи и опеки на основе нового революционного быта, для обеспечения интересов матери и особенно детей и уравнения супругов в имущественном отношении и в отношении воспитания детей» утвержден и введен в действие с 1 января 1927 г. брачно-семейный кодекс. Для признания юридической силы за фактическими брачными отношениями были необходимы доказательства: о совместном проживании фактических супругов, ведении общего хозяйства и выявлении супружеских отношений перед третьими лицами, взаимной материальной поддержке и совместном воспитании детей. Право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания ограничивалось годом с момента расторжения брачного союза. Вводится единый брачный возраст для мужчин и женщин – 18 лет.
На рубеже 1920–1930-х гг. на смену полному отрицанию не только архаичных форм, но и семьи вообще приходит ее частичная реабилитация. Новые, на этот раз более консервативные принципы сексуальной и семейной жизни определяют в качестве нормы только моногамный брак, добрачные связи – аморальными. Любое девиантное поведение в области брачно-семейных отношений резко осуждалось.
Отреагировав на депопуляцию начала 1930-х гг., государство отказывается от легализации искусственного прерывания беременности, разрешенного (впервые в мировой истории) в ноябре 1920 г. и изначально определенного властью как «социальное зло». Согласно постановлению ЦИК и СНК от 27 июля 1936 г., запрещая аборт, правительство шло «навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин». В 1937 г. действие постановления показывает результативность: в крае число рождений увеличилось по сравнению с 1936 г. на 35,9 % (абсолютно на 37 039 чел.). В зависимости от типа населенных мест увеличение распределилось следующим образом – в городах оно достигло – 62,7 % (абсолютно 10 605 чел.), а в сельской местности – 30,7 % (абсолютно 26 434 чел.) [13]. Вероятная причина – в условиях города легче было контролировать реальность медицинских оснований, являвшихся безусловным и исключительным показанием для проведения операции.
В условиях военной повседневности первой половины 1940-х гг. государство все больше нуждается в действенных мероприятиях демографической политики. Пример удачного осуществления этих мер – их проведение в тыловых районах СССР: «один из парадоксов советской… истории… в том, что процесс модернизации смертности полноценно стартовал на рубеже 1942–1943 гг., когда удалось не только приостановить резкое повышение смертности тылового населения, но и добиться ее сокращения… Патерналистская социально-демографическая политика… направленная… на адаптацию населения к полуголодному существованию в сырых и холодных бараках путем повышения эффективности здравоохранения и максимального ужесточения санитарного контроля, оказалась достаточно действенной» [14, c. 16]. Аналогичные процессы проходили в первые месяцы оккупации и на Кубани по воле гитлеровцев, стремившихся максимально обезопасится от эпидемиологических заболеваний.
В годы Великой Отечественной войны происходит трансформация гендерных ролей. Своевременными оказались социально-демографические меры (усложнение процедуры развода, признание того, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов и т. д.), принятые правительством, чтобы, защитив женщину-мать, повысить рождаемость, частично компенсируя тем самым огромные людские потери.
Опубликованный 8 июля 1944 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и «Медали материнства» – примеры конструктивного диалога власти с народом.
Хотя с момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже шесть с половиной десятилетий, современный демографический перепад (резкое вступление Российской Федерации в депопуляционное состояние в 1992 г.) в определенной степени вызван репродуктивным «пиком» (около 25 лет) немногочисленного поколения внуков когорт (наиболее «выбитые» группы приходятся на 1942–1943 гг.) новорожденных в годы войны. Демографические процессы инерционны: отдаленное «эхо» событий 1941–1945 гг. слышно до сих пор [15, c. 151].
Отмена в 1955 г. запрета на аборт, заблокировав на несколько десятилетий поиск альтернативных путей осознанной репродукции, стала признанием (во второй половине 1950-х гг. тренд рождаемости почти не изменился) сложившейся в обществе практики. Опять, как и три с половиной десятилетия назад, искусственное прерывание беременности наивно считается временной проблемой, борьба с которой – дело будущего, поскольку пока нет сил и средств, то есть практически до конца своего существования советское государство не признало свободу репродуктивного выбора женщины и семьи.
На начало 1955–1956 учебного года в Краснодарском крае работало 2748 школ с охватом учащихся 472 226. В среднем на одного школьного врача приходилось 2000–3000 учащихся. Каждый школьный врач обслуживал еще и 3–4 детских садика. Нагрузка на медсестру составляла 1200–1500 человек. Несмотря на недостатки бытовых условий и медицинского обслуживания, все дети в обязательном порядке были охвачены рентгенологическим обследованием, лабораторными исследованиями и осмотром врачей узких специальностей. В результате к занятиям по физкультуре в основную группу допущено 77,6 % учащихся [16].
В 1963 г. в крае функционировало 30 школ-интернатов, в которых воспитывалось 9952 человека. Из них 2 школы (на 225 мест) санаторного типа для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза. В 1964 г. – 29 школ-интернатов. Число воспитанников увеличилось до 10 393 человек. В 1965 г. – 27 общеобразовательных школ-интернатов с числом воспитанников 10 196 [17].
Согласно сообщению Крайздравотдела на 1964 г. в крае было 2477 школ Министерства просвещения РСФСР, ученики которых прошли углубленный медицинский осмотр. Из 506 390 осмотренных 18 697 нуждаются в ЛФК и корригирующей гимнастике. Выявлено: с отсталостью в физическом развитии – 1667, сколиозами – 5274, нарушения- ми осанки – 1664, с плоскостопием – 111, ревматизмом – 4208. Лишь 1434 из перечисленных выше занимаются ЛФК и корригирующей гимнастикой [18].
Огромное значение в СССР уделялось предупреждению заболеваемости школьников туберкулезом: у детей до 12 лет основным методом выявления является пиркетиза-ция не менее 2–3 раз в год, у детей старше 12 лет и у подростков – рентгеноскопия [19].
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 58 от 14 января 1960 г. «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охране здоровья населения СССР» обозначены мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию заболеваемости.
На октябрь 1963 г. в Краснодарском крае имелось 2695 общеобразовательных школ с количеством учащихся 668 887, 34 школы-интерната, в которых обучалось 10 257 воспитанников, 40 детских домов с количеством воспитанников 3500 и 21 специальная школа, где обучалось более 2000 детей. В докладе «О состоянии и мерах улучшения медобслужи-вания учащихся школ, школ-интернатов, детских домов, спецшкол» говорится, что мало внимания уделяется изучению качества питания, грубо нарушаются элементарные санитарные правила, слабо прививаются культурно-гигиенические навыки, что проявляется и во внешнем виде детей. Недостатки имеются и в организации физического воспитания школьников: занятия проводятся без учета индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья учащихся; велик процент, когда школьники освобождаются от занятий в связи с различными физическими недостатками или заболеваниями, в то время как нуждаются в систематических физических упражнениях. Также в некоторых школах не уделяется должного внимания правильной организации режима дня, что приводит к значительной перегрузке детей, следовательно, и к ухудшению здоровья [20].
Согласно проекту плана по здравоохранению Краснодарского края с 1962 по 1970 гг. предполагалось увеличить количество медперсонала с 20 048 на первое полугодие 1962 г. до 30 938 человек, в том числе акушерок с 1334 до 1934 соответственно [21]. Потребность же в средних медицинских кадрах в крае была следующей: на 1960 г. – 1017, а к 1965 г. – 1240, соответственно акушерок требовалось 72 человека в 1960 г. и 84 человека в 1965 г. В то же время план приема в медицинские училища края на 1961 г. составлял 720 человек, в том числе на акушерское отделение 180 человек [22].
После зафиксированного в 1992 г. превышения смертности над рождаемостью, тема «вымирания» России стала одной из самых обсуждаемых. Пересечение кривых рождаемости и смертности не было неожиданным. Информация о нем появилась в прогнозах ЦСУ СССР еще в середине 1970-х гг.
Сокращение рождаемости объясняет концепция демографического перехода, согласно которой на определенном этапе жизнеохранительные, матримониальные и репродуктивные установки населения изменяются. Как правило, происходит резкое возрастание естественного прироста (в России рекордные показатели приходятся на вторую половину 1920-х гг., когда прирост составил около 2 %), вызванного в основном сокращением младенческой и перинатальной смертности. На смену относительно недолгому росту рождаемости приходит фундаментальное снижение, прерываемое лишь послевоенным компенсаторным приростом.
Необходимое условие результативности проведения демографической политики – ее комплексный характер: она должна создать условия для реализации демографических интересов семьи, укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан. Утопичность проектов только экономического стимулирования рождаемости показывает весь мировой (в частности – столетний французский) опыт, и, следовательно, России следует не пытаться ликвидировать титульную депопуляцию, а адаптироваться к ней. Финансовые выплаты только ускоряют реализацию репродуктивной потребности граждан, перенося сроки рождений на более раннее время, но демографический заем у будущего (например, программа поддержки семьи, принятая в 1981 г.) не изменит сформировавшихся у населения установок малодетности. В современном мире политика лозунга действует, как правило, эффективнее политики рубля. Сделать относительно многодетную семью удобной (как, например, в странах Скандинавии) – один из возможных вариантов частичного решения проблемы. К сожалению, Россия (ни советская, ни постсоветская) использует зарубежный опыт не в полном объеме. На протяжении XX в. характер демографической политики изменялся от настойчивых попыток тотальной регламентации естественного воспроизводства до практически полного равнодушия государства к вопросам оптимизации динамики народонаселения.
Ссылки:
-
1. Красное Знамя. 1924. 15 февр.
-
2. Красное Знамя. 1924. 23 марта.
-
3. Подольская З.П. Брачность города Краснодара в 1925 году // Кубанский научно-медицинский вестник. Краснодар, 1928. Т. 9.
-
4. Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 23. Л. 10.
-
5. Красное Знамя. 1924. 25 мая.
-
6. ГАКК. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 23. Л. 11.
-
7. Население и хозяйство Кубанского округа. Стат. сб. за 1924 – 1926 гг. (в двух томах) / под общ. Ред. В.И. Смирнского // Труды Кубанского окружного статистического отдела. Краснодар, 1928. Т. 2.
-
8. ГАКК. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 114. Л. 15.
-
9. ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 10. Л.10.
-
10. ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 32. Л.76.
-
11. Население и хозяйство Кубанского округа. Указ. соч.
-
12. ГАКК. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 23. Л. 16.
-
13. ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 6. Л.2.
-
14. Исупов В.А. К вопросу о начале процесса демографического перехода // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 1.
-
15. Вшивцева Ю.В. Население Краснодарского края накануне и в годы Великой Отечественной войны: историко-демографический аспект (1939–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2010.
-
16. ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 3. Д. 244. Л. 1–4.
-
17. ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 4. Д. 97. Л. 3, 12, 23.
-
18. Там же. Л. 20–21.
-
19. ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 4. Д. 87. Л. 61–62.
-
20. Там же. Л. 1, 4.
-
21. ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 3. Д. 123. Л. 36.
-
22. Там же. Л. 63–65, 91.