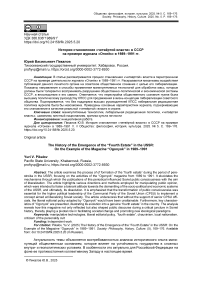История становления «четвёртой власти» в СССР на примере журнала «Огонёк» в 1989–1991 гг.
Автор: Пикалов Ю.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс становления «четвёртой» власти в перестроечном СССР на примере деятельности журнала «Огонёк» в 1989–1991 гг. Раскрываются механизмы воздействия публикаций данного печатного органа на советское общественное сознание с целью его либерализации. Показаны направления и способы применения манипулятивных технологий для обработки масс, которые должны были толерантно воспринимать разрушение общественно-политической и экономической системы СССР, а впоследствии и его самого. Отмечается, что перестройка общественного сознания нужна была высшему политическому руководству КПСС для продвижения в жизнь концепции либерализации советского общества. Подчеркивается, что без поддержки высших руководителей КПСС либеральная редакционная политика журнала была бы невозможна. Приведены основные характеристики журнала, подчеркивающие его становление в качестве реальной «четвёртой» власти в стране.
Манипулятивные технологии, либеральная редакционная политика, «четвёртая власть», шовинизм, местный национализм, критика культа личности
Короткий адрес: https://sciup.org/149147962
IDR: 149147962 | УДК: 366.636“1989/91” | DOI: 10.24158/fik.2025.5.20
Текст научной статьи История становления «четвёртой власти» в СССР на примере журнала «Огонёк» в 1989–1991 гг.
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия, ,
,
Новизна темы исследования заключается в освещении редакционной политики журнала «Огонёк» через призму манипулятивного воздействия на общественное сознание советских людей с целью его либерализации. Эта деятельность журнала способствовала разрушению устоявшихся представлений у граждан страны, касающихся социалистических ценностей. То, что казалось немыслимым в 1987 г. стало нормой общественной жизни в 1991 г. На наш взгляд, советский опыт манипуляций коллективным сознанием мог стать той основой, на которой впоследствии формировались методики «цветных революций».
Практическая значимость исследования проявляется в возможности использования положений и выводов статьи при анализе деструктивного воздействия средств массовой информации (СМИ) на общественное сознание россиян в интересах других государств.
В исследовании применены специальные исторические методы познания - ретроспективный, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический. Ретроспективный метод позволил проанализировать редакционную политику журнала «Огонек» с точки зрения ее отхода от исторически сложившихся принципов советских средств массовой информации под эгидой партийных органов. Сравнительно-исторический метод дал возможность объяснить основные изменения в публикационной деятельности журнала в сравнении с прежними формами и методами советских СМИ. Проблемно-хронологический метод стал основой для формулирования предмета исследования, а именно указания на формирование «четвёртой власти» в СССР 1989– 1991 гг. на примере журнала «Огонёк».
Исторически подтверждено, что средства массовой информации являются основным механизмом изменения коллективного сознания. В СССР периода 1989-1991 гг. они сыграли главную роль в трансформации советского общественного сознания в либеральное, прозападное. Одним из главных инструментов такого преобразования стал журнал «Огонёк». Коллективные идеологические представления советского народа длительно формировались в процессе предыдущей целенаправленной работы партии, которая осуществлялась по двум направлениям: внутренняя пропаганда и внешнеполитическая. Главным итогом формирующей идеологической деятельности партии стала постановка коллективного сознания граждан в жесткие рамки, выйти за которые не позволяла сложившаяся система подконтрольных партии СМИ. Разрушение этих рамок, преодоление идеологической зашоренности стали главными целями нового политического руководства страны во главе с М.С. Горбачёвым. Куратором журнала «Огонёк» был назначен А.Н. Яковлев, который участвовал и в подборе нового главного редактора в лице В.А. Коротича, вызванного из Киева.
С 1987 по 1988 гг. редакция журнала постепенно выводила свою деятельность из-под контроля ЦК КПСС. Советский печатный орган мог обрести статус «четвёртой» власти лишь получив независимость от партии, влияющей на общественное сознание. Такая политика журнала одобрялась и поддерживалась А.Н. Яковлевым и М.С. Горбачёвым. Последний считал необходимым всемерное развитие независимых СМИ, которые должны были играть роль оппозиции КПСС в условиях однопартийной политической системы.
Переход журнала с советской идеологической платформы на либеральную повестку осуществлялся мягко, постепенно в течение 1987–1988 гг. Тогда редакция стала расширять рамки советского общественного сознания за счет материалов, оправдывающих диссидентов, эмигрантов, ранее никогда не публиковавшихся в советской печати (Есикова, 2011). Отдельный ряд публикаций журнала формировал новый положительный образ западной жизни, европейских и американских политических и творческих деятелей. Параллельно этому читатели стали знакомиться с людьми, которые не принимали советское мировоззрение, отторгали его и жили по своим внутренним убеждениям, которые не совпадали с мнением большинства советских людей. За счет талантливой подачи материала и высокого профессионализма сотрудников журнала эти ранее недоступные советскому читателю сферы жизни стали вызывать у него симпатию и живой интерес. Одновременно началось формирование у советских граждан критического отношения к официальной партийной идеологии, делам и словам партийных и советских функционеров.
Еще одной далеко идущей программой, призванной трансформировать советское общественное сознание, стала вновь актуализированная критика культа личности И.В. Сталина. Как показали дальнейшие события в стране 1989–1991 гг., кампания второго, после Н.С. Хрущёва, этапа критики культа должна была привести к подрыву авторитета КПСС и советской власти в целом.
По завершении 1988 г. журнал «Огонёк» стал приобретать черты, характеризующие его как «четвёртую» власть (Лю, 2022). Его материалы приводили к перестройке работы других СМИ, общественных организаций, творческих деятелей, которые оправдывались и извинялись за свои «ошибки». Мнение журнала стало цениться выше инструкций партийных органов.
В целом, к 1989 г., благодаря усилиям журнала в том числе, советское общественное сознание начало трансформироваться в сторону своей либерализации. Встала задача борьбы с остатками советского мировоззрения в этом сознании. И здесь политика редакции была направлена на дискредитацию тех личностей, групп населения и организаций, которые пытались защитить советские идеалы: справедливость, коллективизм, интернационализм, патриотизм.
Уже в третьем номере журнала за 1989 г. разместилась статья под символическим заголовком – «Дети Шарикова». В ней с сарказмом и в надменном стиле критиковалась позиция группы «Память», которая попыталась сорвать выдвижение главного редактора журнала В.А. Коротича кандидатом в народные депутаты СССР1.
В номере четвертом в материале под названием «Закон прежде всего» проводилась мысль о необходимости отмены статьи 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Мировоззрение советского человека было построено на незыблемости института государства как основы народного единства. Разрушение этого базового элемента общественного сознания открывало дополнительные возможности для его либерализации2.
Журналист Лидия Польская в десятом номере опубликовала заметку «Телевизионная провинция». Само название материала говорило об отставании региональных элит от «прогрессивного движения» центральных СМИ. Автор настаивала на необходимости устранения этих провинциальных лакун в информационном поле3.
К интересным выводам подводит своих читателей материал под рубрикой «Колонка редактора» за авторством В.А. Коротича. В нем главный редактор журнала критикует консерватизм известного советского писателя В.Г. Распутина, а заодно и «врага перестройки» из-за рубежа. Последним оказалась жительница Австралии С. Ниллер. Она прислала в редакцию главной газеты страны «Правда» письмо. В нем она говорила: «Дорогой редактор! Я с интересом наблюдаю, как вы отдаляетесь от революционных идеалов 1917 года». В.А. Коротич отвечал ей: «Если в Австралии где-то и возреял нина-андреевский флаг, вовсе необязательно переносить его в главную партийную газету СССР»4. Причины для такого ответа были. Во-первых, жительница Австралии разглядела в «перестройке» политику антисоветской либерализации, что не понравилось редакции «Огонька», так как признавать это было еще рано. Во-вторых, им была дана, хотя и в ироничном тоне, критическая оценка небезызвестного тогда манифеста Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами»5. Это был протест, в довольно резкой форме высказанный Н. Андреевой по поводу политики «перестройки». В-третьих, и это, пожалуй, основное: главный редактор «Огонька» позволял себе критиковать редакционную политику, как он выразился «главной партийной газеты СССР». Еще совсем недавно он поплатился бы за это не только должностью, но и свободой. В 1989 г. он уж мог ничего в этом смысле не бояться: за ним стоял ЦК КПСС в лице А.Н. Яковлева и М.С. Горбачёва.
В номере тридцать первом главный редактор уже восторгался шахтерами Кузбасса, устраивавшими забастовки. Он назвал их «повзрослевшим народом»6. Примечательным в его колонке был анализ причин нового для СССР забастовочного движения. Главными виновниками всех бед шахтеров он назвал не политику «перестройки», которая привела к экономическому кризису, а как раз наоборот – консерватизм и недостаточные усилия в проведении реформ со стороны местного партийного и советского руководства. Ему вторила в своем материале «Площади боли, или другого выхода у Кузбасса не было» Замира Ибрагимова. Она привела мнения бастующих шахтеров: «Мы на правительство обиделись.... Тут хочешь не хочешь, будешь за Ельцина!»7. Очевидно, что в общественном мнении начался раскол в сторону выделения слоев с более радикальной, непримиримой точкой зрения на политику партии и государства.
Логичным дополнением к происходившей трансформации советского общественного сознания выглядела публикация Я. Ярославцева «Либералы». Главная цель автора состояла в том, чтобы изменить отрицательное отношение советских людей к либерализму. Он утверждал, что главные лозунги «перестройки» родились более 130 лет назад в связи с развитием русского либерализма. В подтверждение своих слов он приводит цитату Б.Н. Чичерина: «Либерализм! Это лозунг всякого здравомыслящего человека в России.... В либерализме вся будущность России. Да столпятся же около этого знамени и правительство, и народ с доверием друг к другу»8. В этом журнальном материале мы видим очень тонкую манипуляцию общественным сознанием. В умах читателей утверждалась установка, ломавшая привычное советское общественное сознание:
все известные деятели России, о которых умалчивалось в официальной советской прессе, были выдающимися патриотами и профессионалами. Их забвение было связано с критическим подходом к партии и советской власти. Очередная такая личность делилась с читателями своими откровениями, которые были чистой правдой и заслуживали доверие. Отсюда простые граждане делали невольный вывод: либерализм – это хорошо.
Следующим важным направлением трансформации советского общественного сознания стала дискредитация Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Это направление реализовывалось через критику культа И. Сталина, «разоблачение» деяний В. Ленина, отказ от социализма, критику «засевших» в кабинетах партийных чиновников (Капранова, 2012).
Сегодня уже хорошо известно, что для России большую опасность представляет злонамеренное и целенаправленное искажение ее истории. На это, в частности, обратила внимание М.И. Данилова (Данилова, 2012). Целью такого искажения в рассматриваемый период было заставить россиян стыдиться своей истории и каяться за «преступления режима» перед «просвещенным Западом».
В этом смысле публикации журнала «Огонёк» подталкивали своих читателей к такой оценке своей истории. Наиболее характерными материалами этого ряда явились статьи в номерах 11 за 1989 г. и 1 за 1990 г.
Номер одиннадцатый за 1989 г. открывался фотографией предвыборного митинга. Над толпой собравшихся реял большой транспарант «Преступления сталинизма – преступления против человечества!» Несложно было выстроить логическую цепочку: Сталин – советская история – советская история преступление перед человечеством – надо покаяться за это.
В первом номере за 1990 г. разместился материал В. Костикова под названием «Иллюзион счастья». Автор на примере смерти А.М. Горького рассказал о бесчеловечном «тоталитарном» советском государстве, своеобразным приговором которому стали слова героя пьесы «На дне»: «Господа! Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!»1. Суть материала заключалась в навязывании мысли о «неправильной» советской истории, когда обещали построить социализм, а сотворили «человечеству сон золотой». Вряд ли этим можно было гордиться.
На первый взгляд могло показаться, что развертывание второго этапа критики культа личности И. Сталина выглядело нелогичным. В общественно-политической жизни страны практически не осталось его проявлений. Зачем тогда опять инициировалась эта кампания? Ответом на этот вопрос стала статья Г.Х. Попова «Два цвета времени, или уроки Хрущёва», вышедшая в сорок втором номере «Огонька» за 1989 г. В ней он после рассуждений о половинчатости хрущёвской борьбы с культом писал: «Первая историческая атака на административный социализм закончилась поражением. Беды отождествляли с культом личности и, вынеся Сталина из Мавзолея, сочли проблему решенной. То, что административный социализм пронизал все поры нашего общества, проник в каждую клетку нашего тела и мозга, тогда мы ещё не понимали»2.
Надо признать, что Г.Х. Попов очень точно вскрыл причины половинчатости первого этапа критики культа личности. Как бы это кощунственно не звучало, но репрессии были не главной сутью культа И.В. Сталина. Под его руководством в СССР был построен «административный социализм» со стопроцентной государственной собственностью на все средства производства. Раскрытие этого факта означало бы признание несостоятельности ленинского учения о социализме советского типа, отсутствии демократии в стране при наличии партократического управления. Это был бы путь к разрушению советского государства и его общественно-политического строя. Именно этого боялись члены так называемой «антипартийной группы Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова», которые попытались отстранить Н.С. Хрущёва от власти. Они проиграли схватку с ним и были смещены с руководящих постов решением Июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС3. Н.С. Хрущёв тогда не пошел дальше осуждения репрессий как главной черты культа личности И.В. Сталина. Г.Х. Попов в своей статье предлагал продолжить путь, что и произошло со всеми вытекающими последствиями.
Дальше почти в каждом номере журнала критиковались «партократы» и «партаппаратчики», партия в целом4. Дошло даже до того, что в материале А. Бассарт «Изделие № 6» рассказывалось об особенно шикарных гробах, которые предназначались для похорон умерших представителей партийной номенклатуры. Дескать, и здесь аппаратчики вознеслись над простыми людьми1.
В 1990 г. отмечался 120-летний юбилей В.И. Ленина. Журнал откликнулся на эту дату материалом Н. Гультинского в номере семнадцатом. В нем автор задавался фундаментальным, судьбоносным для страны вопросом: была ли у В.И. Ленина завершенная концепция строительства социализма? После не особенно глубоких размышлений он пришел к выводу о том, что «возможность существования подобной концепции сама по себе сомнительна.... Возможно ли дальнейшее развитие или неизбежен “термидор”, перерождение и гибель?»2. Последний вопрос автора ставил под сомнение саму возможность совершенствования социализма, а, следовательно, и успех перестройки.
Подобные воздействия на сознание советских людей ложились на подготовленную почву. В 1990 г. наблюдалась повсеместная усталость населения страны от экономического и политического кризиса, разгула преступности. Общество потеряло ориентиры и скрепы. Отражением новой социальной ситуации стала заметка С. Далёкого «Город на площади» в восемнадцатом номере за 1991 г. Автор бродил по площади в Минске, на которой недавно проходил многотысячный митинг. Там он увидел брошенный на асфальт плакат с лозунгом: «Долой социализм!»3. То, чего так боялись члены «антипартийной группы», свершилось: советские граждане не хотели больше социализма.
В материале З. Ибрагимовой «Демократия на перекрёстке» утверждалось, что народ устал без продовольствия и перспектив дальнейшей жизни. Уже не было никакого энтузиазма к демократии. Народу стало все равно!4
В 1990 г. КПСС, отстраненная от руководства экономикой, от контроля над советами, от руководства политической системой страны, стала обузой для государства без каких бы то ни было перспектив на возрождение. Параллельно в общественном сознании народа сформировалось убеждение в том, что КПСС – это паразитическая организация, подлежащая роспуску. Даже в этих условиях руководство ЦК КПСС решило подстраховать политическую устойчивость М.С. Горбачёва. Прошедший в 1990 г. в Москве XXVIII съезд КПСС вновь избрал его на должность Генерального секретаря ЦК КПСС5. Лидер, который привел партию к краху, оставался у ее руля до конца, чтобы не дать консервативным силам возродить былое могущество партийного аппарата.
Общественно-политическая система СССР, державшаяся на партийном руководстве, оставшись без него, стала разрушаться. Вследствие этого были запущены процессы распада советского государства. Не последнюю роль в этом сыграли СМИ и журнал «Огонёк», в частности.
Вооруженные Силы СССР как оплот государства подверглись целенаправленной дискредитации. В сознание населения страны внедрялось мнение, что армия и флот излишне большие, требующие своего сокращения. Расходы на их содержание чрезмерные. Командный состав – сплошь консерваторы и враги перестройки.
Л. Сальникова в своем материале «Перекуём мечи...» рассуждала об излишней милитаризации страны, о том, что распродажа имущества армии и флота – это хорошо и полезно. Подтверждением ее мыслей стала фотография с распиленными на части стратегическими бомбардировщиками как символ демилитаризации6. Когда появлялись письма читателей, которые требовали прекратить дискредитацию армии и флота, редакция журнала откликалась на них критическими замечаниями.
Сильной по эмоциональному воздействию на читателей стала фотография, размещенная в двадцать втором номере за 1990 г.: на ней молодой лейтенант стоял с плакатом, на котором большими буквами было написано: «Свобода выбора профессии – конституционное право граждан России. Министру обороны: Прошу уволить меня в запас из Вооружённых Сил СССР»7. Образ советского офицера, не желающего служить своему государству, стал символом развала Советской армии и воспринимался вполне органично на фоне общего кризиса и развала страны. Еще одним штрихом к дискредитации армии стали репортажи об участии военных в разгоне митингов и демонстраций.
Само советское государство также подвергалось острой критике. И. Клямкин в статье «Трудный спуск с зияющих высот» писал прямо и безапелляционно: «Нет, давайте лучше наберёмся смелости и достоинства и признаем без всяких оговорок, что США, Япония и другие большие и малые развитые капиталистические страны находятся впереди нас и что наши ракеты и космические корабли не делают нас равными тем, у кого они есть, и не ставят нас выше тех, у кого их нет»1. То есть, СССР – отсталая держава, находящаяся на низшей ступени цивилизационного развития. Совсем скоро на таких основаниях возникнет образ России как «Верхней Вольты с ракетами», а патриотизм будет назван последним прибежищем подлецов. То, чем совсем недавно гордились все советские люди, – СССР, стало отсталой, жалкой страной без перспектив к прогрессу. Надо отметить, что возмущений читателей не последовало, а если они и были, в небольших количествах, то просто не публиковались. Общественное мнение, судя по всему, отнеслось спокойно к разрушению образа советской страны как великой державы, победившей фашизм.
На этом фоне стал бурно расти сепаратизм в республиках на основе местного национализма. В шестом номере журнала за 1990 г. появились фотографии трупов на улицах Баку. Это были жертвы межнациональных столкновений азербайджанцев и армян. Следствием распада государства стала кровь его граждан.
В номере четвертом за 1991 г. была опубликована статья с фотографиями под заголовком «Океан ненависти разбушевался» о реакции литовцев на ввод войск в Вильнюс. Следом, в пятом номере журнала, уже был размещен материал о штурме ОМОНом Министерства внутренних дел Латвии, также сопровождавшийся осуждающими комментариями. Симптоматичная статья, характеризующая умонастроения населения Риги, под заголовком «Весною в Риге» содержала статистические данные, по которым 46 % русскоязычного населения ощущали Латвию родным домом и хотели жить в ней, даже если государственный статус страны изменится. Они осознавали себя прибалтами. Иными словами, общественное мнение русскоязычного населения этой республики уже было готово к распаду СССР2.
Девятый номер журнала расположил на своих страницах интервью с З. Гамсахурдия – лидером грузинских сепаратистов, который утверждал: «Мы не пойдём путём безбожия, разбоя и террора», очевидно, имея в виду политику союзного Центра3.
Казалось бы, все эти слова и действия сепаратистов – справедливая реакция на «безбожие и терроризм» Центра. С этим можно бы было согласиться, если бы в сознание советских граждан не внедрялась мысль: местный национализм – это хорошо, великорусский шовинизм – это плохо. Например, в тридцать восьмом номере журнала за 1989 г. был опубликован материал «Молдавия: время выбора» за авторством А. Головкова. В нем оправдывался рост национализма в этой советской республике, требования националистов отменить русский язык, перейти с кириллицы на латиницу. По мнению автора статьи, молдаване таким образам отстаивали свои гражданские права. Эта и другие подобные публикации косвенно внедряли в общественное сознание идеи о притеснении русскими национальных меньшинств, насильной русификации. От этого оставалось уже немного до утверждения русской оккупации национальных окраин и распада СССР.
1991 г. стал решающим в подготовке общественного сознания к уничтожению великой страны. Вышеперечисленные материалы дополнились сюжетами, где был поставлен «окончательный диагноз» советскому государству. В тринадцатом номере прозвучала полная дискредитация самой идеи союзной структуры. Утверждалось, что мартовский референдум об обновленном государстве – это уловка бюрократов, которые хотят сохранить общее государство не ради коллективного блага, а чтобы удержать власть. Там же утверждалось, что результаты референдума будут обязательно фальсифицированы, поскольку народ против общего государства. В будущем, как теперь известно, такой подход к результатам референдумов и выборов станет основой технологии «цветных революций».
Двадцать девятый номер 1991 г. разместил на обложке коллаж: фотографию карточного домика, на самом верху которого расположилась карта с рисунком флага СССР.
Наконец, номер тридцать восьмой, вышедший уже после провала Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), отметился статьей «Конец Империи» автора А. Головко. В ней была освещена фактическая гибель советского государства: «Так закончился Внеочередной съезд народных депутатов СССР, страны, которую наши избранники дружно похоронили под жидкие аплодисменты»4.
Журнал «Огонёк» играл все это время важную роль в разрушении советского общественного сознания. Параллельно он становился реальной четвертой властью, приобретая черты ведущих западных СМИ. В 1989 г. в рубрике «Колонка редактора» № 38 В.А. Коротич отвечал на вопросы читателей о тиражах журнала и сотрудничестве с зарубежными странами. По сути, это была неприкрытая жалоба на издателя, который владел деньгами «Огонька», определял его ти- ражи, величину материального вознаграждения редакции и корреспондентов. Это была апелляция к мнению многочисленных читателей с обвинениями в адрес издателя журнала, которым являлось издательство ЦК КПСС «Правда». Обиду В.А. Коротича можно было понять. В 1989 г. тираж журнала превышал 3 300 000 экземпляров, а в 1990 г. уже составлял 4 600 000 экземпляров. При цене одного номера 40 копеек доходы от продаж составляли в среднем почти 70 000 000 рублей в год. Огромная по тем временам сумма, которой распоряжался не журнал, а издательство ЦК КПСС. Для окончательного же становления его как «четвёртой» власти требовалась финансовая самостоятельность редакции.
В 1990 г. на основании решений партийных органов СМИ вышли из-под контроля КПСС и могли регистрироваться как независимые издания. Вследствие этого в тридцатом номере журнала 1990 г. была опубликована фотография заявления редакции журнала «Огонёк» о его регистрации в качестве независимого СМИ. Учредителем стал коллектив данного издания. Авторы лучших публикаций начали получать премии американской фирмы КОМПЬЮТРЭЙД ИНТЕРНЕШНЛ.ЛТД. Естественно, что это были статьи, направленные на либерализацию советского общественного сознания. На страницах журнала появилась реклама. Например, номер пятидесятый за 1990 г. содержал материалы о компьютерах, продаваемых компанией «МММ». На обложке «Огонька», начиная с номера семнадцатого, появилась надпись на английском языке – «The weekly magazine».
1989–1991 гг. стали самыми яркими и выдающимися в творческой биографии журнала «Огонёк». В этот период он превратился в один из главных рупоров «перестройки» и менял свою редакционную политику в соответствии со взглядами высшего партийного руководства страны. От лозунга помощи КПСС в проведении политики «перестройки» журнал пришел к объявлению партии «политическим трупом», а СССР – «карточным домиком», крах которого неизбежен. Активно участвуя в формировании либерального общественного сознания за счет разрушения советского, журнал стал играть роль реальной «четвёртой» власти в обществе. От его позиции и мнения зависели партийные и советские чиновники, редакции местных и отраслевых СМИ, телевидения и радио. Художники, писатели, режиссёры вынуждены были отчитываться перед редакцией журнала за свои «неблаговидные» поступки и мысли. Мнение журнала по главнейшим политическим вопросам жизни общества стало значить больше, чем мнение ЦК КПСС. Это стало возможным при активной поддержке редакции со стороны секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева и самого Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва. С распадом СССР, крахом КПСС и завершением «перестройки» журнал ушел в тень и уже больше никогда не поднимался до прежнего уровня.
На основании вышесказанного можно утверждать, что еще до появления социологической теории Джозефа Овертона (середина 1990-х гг.)1, редакция журнала «Огонёк», в числе прочих СМИ, на практике использовала все основные постулаты концепции постепенного, манипулятивного воздействия на сознание общества, с целью добиться его либерализации. Это удалось ей в полной мере.