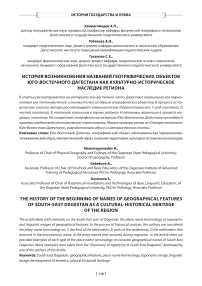История возникновения названий географических объектов юго-восточного Дагестана как культурно-историческое наследие региона
Автор: Гебекова А.Н., Гасанова С.Х., Ханмагомедов Х.Л.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: История государства и права
Статья в выпуске: 1 (38), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается на материале юго-восточной части Дагестана ойконимическая терми- нология как топонимический и лингвистический образы географических объектов. В процессе исто- рического анализа авторы рассматривают ойконимическую терминологию как: 1) род поселений; 2) частей поселений; 3) поселения, возникшие в горных районах; 4) ойконимы, возникшие в процессе ми- грации населения. На конкретных географических названиях Юго-Восточного Дагестана приводятся примеры каждого вида ойконимической терминологии. Многие примеры взяты из «Словаря топонимии Юго-Восточного Дагестана», разработанного одним из авторов данной статьи.
Юго-восточный дагестан, географический объект, ойконимическая терминология, топонимический образ, лингвистический образ, освоение территории, культурно-историческое наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/14120040
IDR: 14120040
Текст научной статьи История возникновения названий географических объектов юго-восточного Дагестана как культурно-историческое наследие региона
В географическом изучении той или иной территории (независимо от ее размера) большой интерес представляет география образов, как подчеркивает В.В. Чихичин, «появление и развитие имажинальной географии (географии образов) свидетельствует о расширяющейся, углубляющейся гуманизации географической науки. Цель изучения многих объективных территориальных процессов и явлений с позиций антропоцентризма – повышать эффективность региональной политики, городского планирования, социальных преобразований»1. На с. 6 В.В. Чихичин правильно пишет: «Как философская и психологическая категория образ объекта – это результат и идеальная форма отражения объекта в сознании человека, совокупность разнородных представлений памяти и воображения о нем, накопленных в сознании человека». Далее В.В. Чихичин продолжает: «Представления о географическом объекте, сформированные в сознании определенного субъекта, содержат знания, ассоциации, стереотипы, символы и оценки, соотносимые с какой-то территорией. Часть представлений о географическом объекте, которые не только наполнены географическим содержанием и привязаны к конкретной территории, но и позволяют устанавливать пространственные связи, сравнивать их с представлениями о других географических объектах, являются географическими образами2.
География и лингвистика образов – часть сферы изучения географии и языкового образа жизни. Они являются составляющей духовной жизни. Как отмечается в литературе, непосредственным носителем образа жизни является субъект образа жизни, где в качестве субъекта выступает население, представленное различными человеческими общностями, выделяемыми в том числе и по территориальным критериям. Для территориальной общности объединяющим признаком является совместное проживание людей, не окруженных участками земной поверхности, а размеры, границы этих участков могут выделяться естественным образом (совокупностью природных зон или этнических условий), в результате взаимодействия социокультурных факторов (поселение) и искусственно (административные границы). Под влиянием качеств и свойств территории у людей вырабатываются общие черты, специфические особенности в способах и стилях жизни, а также образа жизни че-ловека3. По нашему мнению, возникновение топонимов связано именно образом и стилем жизни человека, его миропониманием.
Топонимический и лингвистический образы географического объекта – проблема социально-географическая, прежде всего лингвогеографическая и этногеографическая, возникшая на основе освоения территории и социально-экономической среды. Мы понимаем их основное содержание, заложенное в топонимии в процессе первоначальной номинации географического объекта, они являются визитной карточкой топонимов.
В изучении топонимических и лингвистических образов географических объектов ценный материал дает местная ойконимическая терминология.
Проблеме ойконимической терминологии посвящен отдельный раздел по тюркской топо-нимииДагестана, гдеавтор касается вопросовойконимии азербайджанцев, кумыков и ногайцев4.
Топонимический (ойконимический) ландшафт Юго-Восточного Дагестана слагается из терминологии народов тюркской (азербайджанцев, кумыков), дагестаноязычной(лезгин, табасаранцев, рутульцев, цахур, агул, даргинцев, лакцев, аварцев), славянской (русской) языковых групп, арабской, иранской языковых единиц.
Исходя из целей исследуемой проблемы, разделим ойконимическую терминологию на обозначающую: 1) род поселений; 2) частей поселений; 3) поселения, возникшие в горных районах; 4) ойконимы, возникшие в процессе миграции населения. К первой группе относятся термины: шахар, кент, юрт, аул, оба, казмаляр, махи, ши. Шахар («город») – арабское слово, вошедшее в азербайджанский язык, а затем и в лезгинский, табасаранский, рутуль-ский, цахурский, агульский, даргинский, лакский языки. Город у носителей этих языков ассоциируется с занятием людей, в значительной степени промышленностью, наличием большого количества торговых, культурно-просветительских учреждений, благоустроенностью внутрипоселенческих (городских) коммуникаций. Поездка в город Дербент у азербайджанцев, лезгин, табасаранцев, рутульцев, цахур, агул, кайтагских и дахадаевских даргинцев, в Буйнакск - у акушинских, левашинских, сергокалинских даргинцев, лакцев, аварцев ассоциируется с поездкой в шахар («город»). По мнению Т.Н. Эфендиева, табасаранцы город Дербент называют «шагъур»(«город»), это объясняет, по его мнению, особенно тесные контакты, существовавшие между Табасараном и Дербентом5.
У азербайджанцев, кумыков село выражается термином «кент», у лезгин – «хюр» (хуьр), у аварцев – «росо», у даргинцев – «махи», у лакцев – «кули», у табасаранцев – «агул-къул», у рутульцев – «йух». Под селом эти народы понимали населенный пункт, где люди занимались сельским хозяйством, там был свой огород, возможно, и сад, обязательно мечеть, в досоветской России – неблагоустроенные улицы, в равнинной части – саманные домостроения. На первом этаже домов этого села размещался скот, курятник; имелись ямы для хранения зерна, они служили естественными холодильниками в летнее время.
Термин «кент» в топонимическом образе Юго-Восточного Дагестана отмечается официально в двенадцати районах из шестнадцати. Такое богатое количество, связанное с этим термином, объясняется тем, что в 1930-е гг. тюркский (азербайджанский) язык в Дагестане был объявлен официальным языком, большую роль в этом сыграли тесные экономические, социальные и политические контакты юго-восточных районов Дагестана с регионами Азербайджанской республики. Это подтверждается также С.Ш. Гаджиевой. Так, по ее мнению, термин «кент» проник в диалект южных кумыков через Азербайджан, где село называется «кенд»6. Термин «юрт» в значении «село» в топонимии юго-восточного Дагестана не представлен, но в речи азербайджанцев и кумыков употребляется в значении «дом», «жилище». В Дагестане в районах заселения кумыков широко распространен в значении села термин «аул». Он отмечается в Юго-Восточном Дагестане – в Каякентском районе. По мнению М. Кос-вена, «аул» – монгольский термин, имеющий основное значение – родственная группа (у ногайцев, кумыков, даргинцев, аварцев)7. Автор приводит формы этого термина – «авул», «авал». С.Ш. Гаджиева пишет, что группа кибиток составляла селение, которое называлось «куп» или «аул»8.
В связи с расширением территории сельскохозяйственного освоения на определенном расстоянии от центральных угодий колхозов и совхозов возникли однодворья и многодворья. Эти населенные пункты первоначально не являлись центрами сельскохозяйственных предприятий. У них имелись бригады, фермы центральных усадеб были не благоустроенными, отсутствовали очаги культуры. При многодворьях имелись филиалы школ или малокомплектные начальные школы. В этих условиях возникли ойконимы с термина- ми «оба», «кутан», «казмаляр», получившие затем статус сел. Топоним с термином «оба» в Юго-Восточном Дагестане встречается в Акушинском, Дербентском и Лезгинских районах9. Нельзя согласиться с Б.Б. Талибовым в том10, что ойконим «уба» («оба» – Х.Х., А.Г., С.Г.) встречается только на территории Азербайджана, исключением, по его мнению, является Уружба (Урудж-оба) – село Магарамкентского района Республики Дагестан.
Термины «кутан», «казмаляр», как и «оба», являются тюркоязычными: у азербайджанцев – «гутан» (готан), у кумыков – «къотан» («хлев, скотный двор, кошара, хутор»); «казмаляр» происходит от слова «казма» («землянка», «отселок»). Эти термины широко распространены не только на тюркоязычных территориях Юго-Восточного Дагестана, но и в районах заселения лезгин, даргинцев, табасаранцев, агул, рутульцев, цахур, лакцев, на равнинной территории не только Юго-Восточного Дагестана, но и всего Дагестана. Правда, термин «казмаляр» как ойконимический ограничивается магарамкентским, дербентским и каякентскими районами Республики Дагестан.
В связи с временным характером хуторов в качестве населенных пунктов вышеупомянутые термины вышли из официального употребления, но сохранились в народном употреблении. Поэтому они числятся в «Едином реестре», например Мамайкутан, переименованный в 1970-е гг. в Краспопартизанск11, Аджикутан, Джемикент-кутан, Исмаил-кутан, Геджух-кутан, Шиштепе-кутан, Караган-кутан, Куллар-кутан Дербентского района в Юго-Восточном Дагестане12. Все вышеприведенные ойконимы сохраняются в обиходе местного населения.
Коснемся второй группы ойконимической терминологии. Это термины, обозначающие квартал, часть села, тупик, площадь. Ойконимическим образом в обозначении частей сел и кварталов являются термины: «авал», «авул», «мехля» (магьял, магьле). В лезгинской топонимии – это «гуцухи» («маленькое село», «отсёлок»), «ким» («площадь»), «парах» («загон для скота»), «мискин» (у лезгин), «мизит» (у лакцев), «мижит» (у даргинцев - «мечеть»), «учери» («площадь, место, где собираются люди», обычно у магазина) – у берикейцев, «тигирик» («тупик, переулок») – у берикейских и падарских азербайджанцев.
Широко распространенным термином является термин монгольского происхождения – «мягьла» («улица», «квартал»). Из изученных Х.Л. Ханмагомедовым 643 названий квар-талов13 177 (27,53%) связаны с термином «мягъле» (мехля, магьал, магьле, мехле, мегал). Из 177 названий кварталов с этим термином в лезгинской языковой территории – 134 (75,7%), в лезгинских территориях с лексемами «агъа» («нижний») - 32 (23,87%), «вани» (вини, варти – «верхний») – 46 (34,33%), «къулан» («средний») – 19 (14,8%), на прочих территориях - 37 (27%).
Согласно «Словарю топонимии Юго-Восточного Дагестана», составленного Х.Л. Ханмагомедовым,14 на даргинской языковой территории отмечается термин «квартал» в 8 формах: «къат» – в селах Викри, Усиша, Мургук, Мекеги, в Сергокалинском, Акушинском, Левашинском районах; «катти» (село Мекеги, Левашинский район); «къот» (село Машаты, Кай-тагский район); «как» (село Герга, Сергокалинский район), «ша» (село Джирабачи, Дахадаев-ский район), «ши» (село Усиша, Акушинский район. В такой форме автором отмечен топоним «квартал» в лакской топонимии села Чуртах Лакского района. По нашему мнению, это заимствование из даргинского языка. В селе Усиша Акушинского района автором изучен термин
«гъул» (от къул – «квартал»), являющийся заимствованием из табасаранского языка. Такие случаи отмечаются и в других регионах юго-восточного Дагестана, при более детальном изучении топонимического образа.
В Даргинском районе и в селах Усиша, Хуршни Акушинского и Дахадаевского районов Х.Л. Ханмагомедовым отмечается в значении квартала форма «къат» – в селе Дирбакмахи Дахадаевского района; тюркский (азербайджанский) термин «кент» в значении «квартал» – в Каякентском районе (в селах Башлыкент, Капкайкент, Алходжикент, Утамыш, Каранайаул, Джаванкент), в Кайтагском раоне (в селе Маджалис)15.
В некоторых селах лезгинской группы народов (Ахты, Курах, Микрах, Тпиг, Буркихан, Ца-хуридругих), как отмечает М.М. Ихилов16, сохраняется и теперь прежнее деление на кварталы (мехле). В старину они были заселены коллективами, связанными родством. Родственная связь населения все более теряет свое значение, многие колхозники строят себе новые дома там, где им удобно. Это характерно для сел, возникших в последние годы. Касаясь термина «мягъле», а также «тухум»,17 в цитируемой работе М.М. Ихилов отмечает, что в некоторых селах эти термины означают исходно территориально-родовую группу. В старинных селах названия кварталов часто совпадают с названиями тухумов, а в новых, сравнительно недавно образовавшихся аулах, принцип родственного расселения семей нарушается. Так, в селе Лу-чек Рутульского района разные семьи, вышедшие из разных тухумов, живут вперемешку.
В XIX в. о магалах в Дагестане пишет Гасан-Эфенди Алкадари в своем труде «Асари Дагестан». Это магалы: Кюра, Южный Табасаран, Агул, Кушан, Ахмар, Улус в Кюринском округе, Теркемейский – в округе Кайтага и Табасарана, в Самурском – Ахты-Пара, Докуз-Пара, Рутул, Цахур, Борч18. Здесь, согласно произведению Гасан-Эфенди Алкадари, магалы в Дагестане ограничиваются Южным Дагестаном. А.К. Керимов, касаясь темы древнего Дербента, пишет: «По характеру планировки город делится на две части: верхнюю, старую, называющуюся ма-галом, с узкими кривыми улочками, с нижнею прямоугольной сетью»19. Топонимическим образом планировки верхней части древнего Дербента является именно этот термин – «магал» с названиями, характерными особенностями. Автор насчитывает в Дербенте 9 магалов20. Г. Гусейнов для города Дербента отмечает 4-й магал (ныне нижняя часть этой улицы называется ул. Айдынбекова, а остальные приходятся на 2-й и 4-й магалы, бывший Церковный переулок – ныне 1-й магал21. Кроме того, в этом городе был Армянский магал22.
СогласноПриложениюкПостановлениюглавыадминистрацииг. Дербентаот04.04.1997 и решению горисполкома г. Дербента от 16.10. 1982 в г. Дербенте были улицы-магалы – с 1-го по 9-й23. С.Ш. Гаджиева для теркемейских азербайджанцев Дагестана отмечает квартал в форме магал24, что не соответствует действительности. Для них характерен термин «мехле» (мяхле), но для сел Рукель, Мугарты, Марага, Великент, Деличобан – в форме «мехле»25.
Среди первых улиц Дербента Г. Гусейнов называет две улицы с термином «куче» (кюче, с азербайджанского – «улица»). Гян-кючя в значении «широкая улица» и кяля-кюче в значении «большая улица» (с горско-еврейского), что требует уточнения. Есть версия о том, что второе слово нельзя считать по языковому происхождению горско-еврейским26. Может быть, горскими евреями эта лексема заимствована из азербайджанского языка с языком народа, с которым они имели тесные экономические, культурные контакты.
Х.Л. Ханмагомедовым в «Словаре топонимии Юго-Восточного Дагестана» в селе Борч отмечается квартал под названием Гугудкуче в значении «улица жаровников (из муки)»27.
Квартал как ойконимический термин русского происхождения А.К.Керимов отмечает в древнем Дербенте, в количестве 84. Они нумерованные: в первом магале – 58, 93, 96, 97, 98, 109, 112, 113, 114, 114 б; во втором – 93, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 109, 111, 111 а, 112; в третьем – 108, 108 а, 109, 111, 111 а, 121; в четвертом – 111, 111 а, 112, 114, 114 б, 115, 116, 117; в пятом – 108, 108 а, 108 б, 111, 111 а, 116, 117, 117 а, 118, 119, 121, 122, 123, 114; в шестом – 116, 121, 123, 124, 125, 126, 144; в седьмом – 121, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 147; в восьмом – 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149; в девятом – 130, 143, 144, 150. «Самый богатый магал по количеству кварталов – 7-ой магал (16 кварталов), самый малый – 9-ый ма-гал (4 квартала); по количеству домов выделяется 1-й магал – 260 домов (из него выделяется 58 кварталов с 115 домами), с наименьшим количеством домов – 9-й магал (с 47 домами)». В цитируемом труде по количеству многоэтажных домов выделяется 1-й квартал – с 20 домами, с наименьшим - 3-й магал с одним домом28. Достаточно благоустроенным кварталом в древнем Дербенте можно считать 1-й квартал. Это немаловажный фактор для изучения условий жизни местного населения в географической (районной) планировке города Дербента.
Цитируя А.И. Робакидзе, Ш.М. Ахмедов, А.Г. Булатова, А.И. Исламмагомедов пишут: «Исследования кавказских этнографов, в первую очередь грузинских, показали, что почти у всех горцев Кавказа в качестве основной единицы поселения выступала группа небольших населенных пунктов, расположенных по отдельным ущельям. Это грузинское «хеви», абхазское «аабста», сванское «абуасд», осетинское «ком», балкарское «аузу», ингушское «чIож»... общность которых покоилась на совместной эксплуатации лесов, горных пастбищ и некоторых сенокосов, а также на общих интересах обороны. Устройство дорог и мостов на всей территории, уход за общинным святилищем, набеги на соседние общины и т.д., что составляло немаловажные черты этой общности»29. Это может служить также визитной карточкой топонимического образа расположения населенных пунктов, о которых говорят топонимы-хоронимы: Агул-дере, Кушан-дере, Курах-дере. Как пишут Ш.М. Ахмедов, А.Г. Булатова, А.И. Исламмагомедов, «наблюдается ярко выраженное тяготение к речной долине, стремление заселиться у воды, преимущественно у слияния двух речек, хотя имеются некоторые исключения. Заселение долин рек, не забираясь на высокие водораздельные хребты горных массивов, перевалы, на вершины гор, является характерной особенностью всех народностей в высокогорных районах Дагестана, в том числе и агулов»30. Такую же ситуацию отмечают следующие ойконимы: Кавкайкент (с кум. и азерб.) в значении «с трех разветвлений», название села Каякентского района Куштиль (с азерб. и таб.) – название села в Хивском районе, означающее «линейное село» (село расположено на правом берегу реки Рубасчай), Хазар (от азербайджанского названия Каспийского моря) – село в Дербентском районе, расположенное у Каспийского моря, название бывших хуторов (кутанов) Дербентского района – Дере, расположенных недалеко от села Зидьян-Казмаляр – в значении «долина, ущелье» (с азерб.), Ортакъол (с кумык. – «срединная долина») недалеко от села Татляр – название железнодорожной станции, села Магарамкентского района Самур и др. Визитные карточки (топонимическими и лингвистическими образами) названий сел Кала-Корейш Дахадаевского района и Куруш Докузпаринского района – это связь их с арабским племенем курейшиты.
Ценный материал в изучении топонимических образов дают миграционные процессы переселения. Так, переселение табасаранцев с гор на долину реки Рубас в 1950–1960-е гг. с целью улучшения жизненных условий привело к образованию в этой долине однонациональных сел: села Сыртыч (переселенцы из сел Сыртыч, Чере, Вартатиль, Хурцик, Гензир, Иманкуликент, Мехтикент), Чулат (переселенцы из сел Чулат, Гугнах), Гюглет (переселенцы из сел Гюграх, Урцик, Конциль), Новолидже (переселенцы – часть жителей села Лидже)31. Это явление мы считаем внутрирайонным этническим видом миграции табасаранцев32.
В работе «Миграция населения Дагестана» в одной из тенденций (седьмой) отмечается случай, когда в результате миграции в «голые места» в связи со стихийными явлениями из разных населенных пунктов произошла естественная адаптация мигрантов к новой этнической среде и хозяйственной инфраструктуре, отличной от той, откуда мигранты родом, что привело к образованию новых топонимов (пример: село Дружба в Каякентском районе Республики Дагестан)33 и селом Зубутли-Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. Первый топоним появился после землетрясения в Южном Дагестане в 1966 г., второй – после землетрясения в 1971 г. в горных районах центрального Дагестана.
В перечисленных населенных пунктах Х.Л. Ханмагомедов и Д.Ш. Мужаидова рассматривают в работе «Внутренняя миграция населения в Юго-Восточном Дагестане (по данным топонимии) и адаптации их носителей в новой экосреде»34 два фактора миграции: 1) топонимы, которые не требуют дополнительных исследований, откуда родом мигранты. К таким они относят кварталы в селе Хурик Табасаранского района – Гурккар (с таб. «гурикцы» – от села Гурик), в селе Ашага-Архит Хивского района – Ричабар (с таб. «ричабинцы»), Ахты Ах-тынского района – Акъар (с лезг. «акинцы»), названия улиц пос. Мамедкала – Укузская (от села Укузкурахского района); Кала-Корейшская (от села Кала-Корейш Дахадаевского района) и др.; 2) топонимы, которые без научных изысканий невозможно определить, опираясь на начальные пункты миграции населения. Среди них указанные авторы называют названия кварталов сел Борч Рутульского района, Мохейлар (с рут. «азербайджанцы»), Кирка Ма-гарамкентского района, Яхулар (с лезг. и азерб. «лакцы»), Ашага-Стал Сулейман-Стальского района, Урузар (с лезг. «русские»).
В переселенческих территориях Дагестана в советский период топонимическим образом являются географические объекты с лексемой «новый». Таких населенных пунктов в «Едином реестре административно-территориальных единиц Республики Дагестан»35 на- считывается 40, из них в Кизлярском районе – 10, Тарумовском и Хасавюртовском районах -по четыре, в городе Махачкала и в Новолакском районе – по три, в Бабаюртовском, Кая-кентском, Кизилюртовском районах – по два, в Кайтагском, Гумбетовском, Докузпаринском, Табасаранском, Сергокалинском, Ботлихском, Магарамкентском, Ахтынском, Хивском, Даха-даевском, Рутульском районах – по одному.
Больше всего топонимических образов с лексемой «новый» в Кизлярском районе. Он,как регион с благоприятными географическими условиями (орографическими,кли-матическими, почвенно-растительными и др.), больше привлекает переселенцев из горных районов Дагестана, особенно из аварских и даргинских районов. Это добровольная миграция, связанная с возможным улучшением материальных условий переселенцев. Процесс проникновения переселенческих населенных пунктов, по нашему мнению, будет продолжаться в будущем. В справочнике «Дагестанская АССР. Административно-территориальное деление» на 1 мая 1979 г. 33 переселенческих населенных пункта помечены лексемой «новый»36.
Изученный нами материал, основанный на географии Юго-Восточного Дагестана, показывает огромную роль исследования топонимического образа в географическом познании территории.
Мы коснулись лишь некоторых аспектов данной проблемы. Подробное изучение даст новый материал и поможет географам, историкам и лингвистам в решении не только чисто терминологических и топонимических вопросов, но и вопросов, касающихся других наук. В этом их научная ценность и прикладное значение.
Данный материал считаем культурно-историческим и географическим наследием народов Юго-Восточного Дагестана в условиях хозяйственного освоения региона.
Список литературы История возникновения названий географических объектов юго-восточного Дагестана как культурно-историческое наследие региона
- Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан: исторические сведения о Дагестане/Пер. и прим. А. Гасанова. Махачкала: Лотос, 2009. -224 с.
- Ахмедов Ш.М. Поселения//Агулы: Сборник статей по истории, хозяйству и материальной культуре. Махачкала: Изд. Ин-та истории, яз.и лит-ры им. Г. Цадаса Даг. фил. АН СССР, 1975. C. 67-97.
- Гаджиева С.Ш. Дагестанские азербайджанцы в XIX -нач. ХХ в.: Историко-этнографическое иссл. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. -359 с.,
- Гаджиева С.Ш. Дагестанские теркеменцы. XIX -нач. ХХ в.: Историко-этнографическое иссл. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры, 1990. -216 с.
- Гаджиева С.Ш. Кумыки в XIX -нач. ХХ в.: Историко-этнографическое иссл. М.: Изд-во АН СССР, 1961. -387 с.