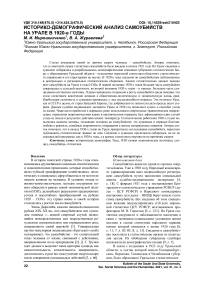Историко-демографический анализ самоубийств на Урале в 1920-е годы
Автор: Мирошниченко Мария Ильинична, Журавлева Вера Анатольевна
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из причин смерти человека - самоубийству. Авторы отмечают, что в советской стране статистика самоубийств была введена в начале 1921 года На Урале сведения о суицидах собирались и разрабатывались демографическими секциями губернских статистических бюро, с образованием Уральской области - отделением моральной статистики областного статистического управления и его структурами на местах. В 1920-е годы сведения по самоубийствам публиковались в центральных и региональных статистических сборниках. Анализ статистических данных показал рост самоубийств на Урале в годы НЭПа. В первой половине 1920-х годов большая часть самоубийств совершалась в сельской местности, во второй половине 1920-х годов - в городах. Большую часть суицидников составляли мужчины. Однако проявилась тенденция к росту самоубийств среди женщин, что стало следствием вовлечения женщин в общественно-политическую и экономическую жизнь края. Наибольшая склонность к суицидам проявилась у лиц трудоспособного возраста. Это отличало Урал, как и СССР в целом, от стран Западной Европы, где добровольно из жизни уходили прежде всего старики. Данные судебно-медицинских экспертов Урала за 1926 год позволяют судить о способах ухода из жизни. Чаще всего прибегали к асфиксии, реже использовали смертельные травматические повреждения, отравления неорганическими ядами и органическими отравами, был зафиксирован один случай ухода из жизни в результате действия низких температур. Статистические работники 1920-х годов попытались выявить мотивы, толкавшие человека на самоубийство: это душевные и нервные болезни, любовь и ревность, семейные неприятности, отвращение к жизни, материальные лишения. Авторы статьи отмечают, что в начале 1930-х годов на Урале прекратилось исследование самоубийств, перестали публиковать статистические данные по ним. Сведения о суицидах продолжали собираться, но не по специальной программе, как в 1920-е годы, а в рамках статистики смертности по причинам смерти.
Историческая демография, урал, нэп (новая экономическая политика), суицид, самоубийца, статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147236568
IDR: 147236568 | УДК: 314.148(470.5) | DOI: 10.14529/ssh210403
Текст научной статьи Историко-демографический анализ самоубийств на Урале в 1920-е годы
В истории советской страны 1920-е годы ознаменовались крупнейшими социально-политическими и экономическими процессами, которые способствовали глубокой трансформации хозяйственных, политических и социальных сфер общества и не могли не оказать влияние на человека. В условиях отказа от военно-коммунистических методов построения нового общества в рамках новой экономической политики (НЭП), дальнейшего разрушения традиционных устоев и масштабных преобразований на рубеже 1920 – 1930-х год страна вновь в своей истории столкнулась с ростом числа самоубийств.
Эмиль Дюркгейм, классик западной социологии рубежа XIX–XX вв., под самоубийством или суицидом понимал «…всякий смертный случай, являющийся непосредственным или посредственным результатом положительного или отрицательного акта, совершенного самой жертвой» [1]. Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» особо подчеркивает, что самоубийство – это сознательный отказ человека от жизни, связанный с действиями, направленными на ее прекращение [2]. Д. Г. Трунов идет дальше и выделяет такие критерии суицида, как самостоятельность, сознательность, намеренность, достаточность и post hoc (наступление смерти вскоре после совершения суицидальных действий) [3, с. 66].
Обзор литературы
Источниковая база
Самоубийство является одной из причин смерти человека. Уже в 1920 году Народный комиссариат здравоохранения ввел всероссийскую регистрацию самоубийств путем заполнения специальной анкеты судебно-медицинскими экспертами [4, с. 18]. С февраля 1921 года с постановления Центрального статистического управления РСФСР (далее – ЦСУ РСФСР) и Народного комиссариата внутренних дел (далее – НКВД) берет начало статистика самоубийств. Все сведения об этом социальном явлении аккумулировались в Отделе моральной статистики ЦСУ РСФСР, возглавляемом профессором М. Н. Гернетом [5, с. 221]. На Урале статистика смертности и заболеваемости населения в связи с экономико-социальными условиями жизни входила в состав статистики народного здравия, начало которой относится к июню 1920 года [6, с. 11; 7, л. 82–83; 8, л. 13]. Сведения о самоубийствах поступали в статистические органы из подотделов загсов. Их обобщение губернские статбюро возложили на демографические секции [9, л. 7].
В связи с созданием в 1923 году Уральской области, в состав которой вошли Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская губернии, было образовано Уральское статистическое управление с окружными статбюро на местах. В 1926 году была уточнена структура органов государственной статистики. В составе сектора социальной статистики выделилось отделение моральной статистики, которое занималось сбором и разработкой статистики самоубийств [10, л. 26]. Данные о самоубийствах основывались на опросных листах, которые заполнялись загсами и направлялись в статистические бюро. Этот документ содержал личные сведения о самоубийце, а также о способе, времени и месте совершения самоубийства, его причинах [11].
Статистические данные по самоубийствам в изучаемое время были достаточно достоверными, т. к. источником информации о них являлись записи в медицинских свидетельствах о наступлении смерти подобным образом, составленные медиками, как правило, врачами. Они служили основанием для указания причины смерти в записях актов о смерти. Все насильственные смерти, в том числе и самоубийства, полностью учитывались судебномедицинскими инстанциями [12, с. XXXII]. В 1920-е годы данные по самоубийствам публиковались в центральных и региональных статистических сборниках.
Самоубийство как одна из причин смертности населения было представлено во всех классификациях причин смерти населения. Уточненная классификация причин смерти населения, разработанная Уралстатбюро совместно с областным отделом здравоохранения на рубеже 1925–1926 годов, включала самые распространенные способы совершения суицида – удавление и утопление. Все же остальные способы фиксировались под формулировкой «без указания способа» [13, л. 333; 14, л. 32].
Историография
В России отношение к самоубийствам было неоднозначным. Оно изменилось от замалчивания этого явления до изучения его. Так, в середине XIX в. цивилист и историк Н. В. Елагин, с 1848 года сторонний цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета, ни под каким видом не допускал к публикации повести, в которых говорилось или хотя бы упоминалось о самоубийстве [15, c. 595]. Но уже в течение второй половины указанного века сложилась обширная историография суицида.
В 1920-е годы продолжились исследования самоубийств как опасного социального явления. Особое значение имели работы профессора М. Н. Гернета [5; 16], в которых ученый изучал динамику численности самоубийц по регионам страны, полу и возрасту, мотивам суицида. На эту же тему писали его коллега по отделу моральной статистики ЦСУ Д. П. Родин [17] и заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы Наркомата здравоохранения РСФСР Я. Л. Лейбович [4]. Но в последующие десятилетия в СССР эта проблема оказалась под запретом.
В настоящее время в условиях увеличения числа самоубийств проблема суицида изучается представителями разных наук, издается специальный научно-практический журнал «Суицидология» [см., к примеру: 11; 18–24 и др.]. Зарубежные специалисты также исследуют феномен самоубийства. Они изучают влияние безработицы, браков, разводов, рождений и других факторов на частоту суицидов в своих странах [25, 26]. Д. П. Дос Сантос, М. Таварес, П. П. Баррос сравнивают зависимость уровня самоубийств от динамики экономических циклов в Португалии в период с 1910 года по 2013 год [27]. С. М. Кеван представил историографический обзор публикаций о сезонности самоубийств [28]. При изучении самоубийств в России зарубежные исследователи в основном по-прежнему обращаются к дореволюционному или современному периодам и к центральным районам России. К примеру, доктор философии И. Х. Мякинен, сотрудница Stockholm Centre on Health of Societies in Transition (Швеция), в статье «Смертность от самоубийств в восточноевропейских регионах до и после коммунистического периода», хотя и говорит о региональных моделях 1910 – 1920-х годов, но преимущественно сравнивает уровень самоубийств в 1910-е годы и в конце 1980-х годов. Упоминая о данных официальной статистики по самоубийствам по 16 регионам СССР в 1926 году, она называет лишь СевероКавказский регион [29]. Австралийский и американский историк и советолог Шейла Фицпатрик анализирует самоубийства в Советской России, но в 1930-е годы [30].
На фоне роста интереса исследователей к данной проблеме до сих пор нет работ по феномену самоубийства на Урале в переломные периоды прошлого века. В данной статье делается попытка восполнить этот пробел в отношении 1920-х годов. Изучать обозначенную проблему сложно, т. к. опубликованные в открытых источниках и сохранившиеся в архивах данные разнятся, тем не менее можно определить тренды в развитии этого социального явления на Урале.
Методы исследования
Статья написана на основе метода системноисторического анализа, статистико-демографического метода и метода описательной статистики.
Результаты и дискуссия
Сохранившиеся статистические сведения по Уралу за 1920-е годы свидетельствуют об устойчивом росте числа самоубийств. Если в 1922 году в Уральском районе (без Тюменской губернии) было зафиксировано 163 случая суицида [16], то во вновь образованной Уральской области их было в 1923 году 179, в 1924 году – 295, в 1925 году – 392, в 1926 году – уже 435, а в 1927 году – 687, т. е. за 1923–1927 годы численность добровольно ушедших из жизни уральцев выросла в 3,8 раза. В первой половине 1920-х годов боль- шая часть самоубийств приходилась на сельскую местность. Доля суицидников-селян среди всех самоубийц на Урале составила в 1924 году 52,9 %, в 1925 году – 64,2 %. Но с 1926 года город начал опережать село по этой причине смерти своих жителей: в 1926 году удельный вес самоубийц-горожан среди всех самоубийц Уралобласти достигал 51,3 %, а в 1927 году – 52,1 %. Обращает на себя внимание тот факт, что в городах удельный вес добровольно ушедших из жизни среди всех скончавшихся всегда был выше, чем в сельских поселениях региона. К примеру, среди всех умерших в 1924 году суицидники составили в городах 0,4 %, на селе – 0,1 %, а по области – 0,2 %; в 1927 году – соответственно, 0,9 %, 0,2 % и 0,3 %. В 1928 году в уральских городах суицидников был уже 1 % от всех скончавшихся в этот год.
На Урале, как в городах, так и в сельской местности, кончали жизнь самоубийством в основном мужчины. Однако и среди женщин было достаточное число добровольно ушедших из жизни. Так, на 100 мужчин-суицидников в 1924 году приходилось по области 48 женщин, по городам – 53, в сельской местности – 44 женщины; в 1926 году соответственно – 51, 50 и 51. Уже в 1920-е годы проявилась тенденция к постепенному росту самоубийств среди женщин: в городах региона в 1927 году их было уже 66, а в 1928 году – 65 чел. на 100 мужчин, добровольно ушедших из жизни. Это стало следствием включения женщин в общественно-политическую и экономическую жизнь страны и края [рассчитано по: 31, с. 74, 77; 32, с. 22; 33, с. 41; 34, с. 10; 35, с. 37; 36, с. 117; 37, с. 59; 38, л. 29 об., 81 об.; 39, л. 132 об., 141 об.].
Статистические данные Урала позволяют проанализировать возраст самоубийц. Еще в 1920-е годы М. Н. Гернет и Я. Л. Лейбович отметили специфику СССР, отличавшую его от других европейских стран, в которых численность самоубийц возрастала по мере перехода к более старшим возрастным группам. В Советском Союзе, наоборот, наибольшая склонность к суицидам проявилась в молодом возрасте (20–24 года) и в ближайших к нему возрастных группах (16–19 и 25–29 лет) [4, с. 6; 5, с. 224]. В этот же период Е. Н. Тарновский попытался объяснить этот феномен большей вовлеченностью молодежи в процесс развития страны [5, с. 224].
Отмеченная учеными специфика советской страны подтверждается и статистическими данными по Уралу. Большинство добровольно ушедших из жизни в изучаемом регионе – это лица трудоспособного возраста (17–59 лет). В 1924–1925 годы их доля среди всех суицидников Уралобла-сти достигала 79 %, при этом в 1924 году она составляла среди женщин 87,5 %, мужчин – 75,4 %; в 1925 году соответственно – 82,1 и 77,5 %. В указанный период были и самоубийцы в возрастной группе до 9 лет. В основном это были мальчики – четверо из пяти суицидников этого возраста в 1924
году и все (три человека) в 1925 году [рассчитано по: 32, с. 22–23; 40, с. 34–35].
Более детальный анализ возраста самоубийц возможен только в отношении городского населения Уральской области в 1924–1928 годы В 1924 и 1926 годах было зафиксировано по два самоубийства в год среди детей до 9 лет, во всех случаях это были мальчики. Численность суицидников-горожан резко возрастает в возрастной группе 10–19 лет. Их доля уже достигала в 1924 году 24,8 %, в 1927 году снизилась до 15,1 % и немного увеличилась в 1928 году, составив 18,3 %. Однако в рассматриваемый период большая часть добровольно ушедших из жизни приходилась на трудоспособный возраст (20–59 лет), они составили в 1924 году 66,4 % от всех самоубийц в городах региона, в 1927 году – 79 %, в 1928 году – 73,2 %. В рамках данной возрастной группы наибольший удельный вес суицидников приходился в 1924 году на 20–39 лет (51,1 %), в 1927–1928 годах – на 20–29 лет (40,5 и 40,1 %). В дальнейшем этот показатель постепенно снижался, достигнув в 1924 году в группе 40–59 лет 15,3 %, в 1927–1928 годах в группе 30–59 лет соответственно – 38,5 и 33,1 %. Среди горожан от 60 лет и старше самоубийцы составляли не более 6,6 % (1924 г.) – 6,7 % (1928 г.).
Половозрастной анализ самоубийц в уральских городах показывает, что в группе подростков и молодежи 10–19 лет, в отличие от всех остальных возрастных групп, среди суицидников в 1927 и 1928 годах численно преобладали представительницы женского пола, они насчитывали 31 человека против 23 мальчиков и юношей в 1927 году и 44 человека против 27 в 1928 году; доля девочек и девушек 10–19 лет среди добровольно ушедших из жизни женщин составляла соответственно 21,8 % и 28,4 %, а удельный вес мальчиков и юношей среди мужчин-самоубийц в указанные годы был 10,6 и 11,5 %. Число суицидов у мужчин-горожан Урала достигало своего максимума в трудоспособном возрасте 20–59 лет и сохранялось таковым на всем протяжении этой возрастной группы. Так, доля самоубийц 20–29 лет среди всех мужчин, добровольно ушедших из жизни, составила в 1927 году 36,6 %, в 1928 году – 40 %, а 30–59 лет соответственно – 44 и 37,9 %. У женщин наибольшее число суицидов зафиксировано в возрасте 20–29 лет: удельный вес самоубийц среди всех горожанок, добровольно ушедших из жизни, составил в 1927 году 46,5 %, а в 1928 году – 40,1 %. Но уже в возрастной группе 30–59 лет происходит резкое снижение этого показателя – доля самоубийц этого возраста среди всех суицидниц составила в 1927 году 30,3 %, 1928 году – 25,7 % [рассчитано по: 31, с. 74–75; 34, с. 10– 11; 35, с. 37–38; 40, с. 38–39]. Таким образом, чем старше становилась женщина, тем ответственнее она относилась к своей жизни.
Данные судебно-медицинских экспертов Урала за 1926 год (без осмотров прочих врачей) позволя- ют судить о том, каким образом самоубийцы уходили из жизни. Чаще всего прибегали к асфиксии (68 случаев), в том числе в результате повешения (51 случай), удавления руками и петлей (9), утопления (8). Далее по частоте использования были смертельные травматические повреждения (37 эпизодов), они наносились в основном огнестрельным оружием (22 случая) или острым оружием (5 случаев). Суицидники прибегали и к отравлению неорганическими ядами, в том числе кислотами и щелочами (10 эпизодов), и органическими отравами (9 случаев). В указанный год был зафиксирован один случай ухода из жизни в результате действия низких температур [41, с. 21].
Статистические работники 1920-е годы попытались выявить мотивы, толкавшие человека на самоубийство. Ими стали душевные и нервные болезни, любовь и ревность, семейные неприятности, отвращение к жизни, материальные лишения.
Средства массовой информации Урала постоянно извещали о случаях и способах суицида. К примеру, в июле 1923 года в областной газете «Уральский рабочий» сообщалось, что в Ирбите бросились (по невыясненным причинам) со сплавного моста в реку Ницу и утонули мать и сын Овчинниковы; в Свердловске в общежитии рабочего факультета Уральского государственного университета застрелилась («на романтической почве») студентка Анна Широкова [42]; в Глинской волости близ деревни Голендухиной по невыясненным причинам покончила с собой семнадцатилетняя Наталья [43]. Регулярно сообщалось также и о попытках суицида. Так, в 1926 году в Свердловске на кладбище бывшего монастыря девица Лукоянова выпила большую дозу уксусной эссенции, а неизвестная женщина около пивной инвалидов также отравилась уксусной эссенцией, обе в бессознательном состоянии были отправлены в городскую больницу [44, 45].
В начале 1930-х годов прекращается исследование самоубийств, перестали публиковать и статистические данные по ним. Но сведения о суицидах продолжали собираться, правда не по специальной программе, как в 1920-е годы, а в рамках статистики смертности по причинам смерти.
Выводы
Таким образом, в 1920-е годы СССР, столкнувшись с ростом самоубийств, поручил статистическим органам заниматься сбором и разработкой данных по ним. Уральские статистики выявили численность самоубийц, их половозрастной состав, определили способы и мотивы добровольного ухода людей из жизни. Но в начале 1930-х годов эта работа была свернута.
Список литературы Историко-демографический анализ самоубийств на Урале в 1920-е годы
- Дюркгейм, Э. Самоубийство: Социологический этюд / Э. Дюркгейм. - М. : Мысль, 1994. - 399 с.
- Энциклопедия Кругосвет: Универсальная научно-популярная энциклопедия. - иКЬ: https://www.krugosvet.ru/node/42363 (дата обращения: 01.02.2021).
- Трунов, Д. Г. Определение суицида: поиск критериев / Д. Г. Трунов // Суицидология. -2016. - Т. 7, № 1 (22). - С. 64-67.
- Лейбович, Я. 1000 современных самоубийств (социологический очерк) / Я. Лейбович. -М. : Вхутемас, 1923. - 20 с.
- Гернет, М. Н. Преступность и самоубийства во время войны и после нее / М. Н. Гернет. -М. : Изд. ЦСУ СССР, 1927. - 270 с.
- Материалы о деятельности Челябинского губернского исполнительного комитета к 6-му губернскому съезду Советов (декабрь 1922 г.). -Челябинск : Б/и, 1922. - 119 с.
- Государственный архив Курганской области (далее - ГАКО). - Ф. Р-14. - Оп. 1. - Д. 6.
- Государственный архив Пермского края (далее - ГАПК). - Ф. Р-19. - Оп. 1. - Д. 15.
- ГАПК. - Ф. Р-19. - Оп. 1. - Д. 199.
- Архив Златоустовского городского округа (далее - АЗГО). - Ф. Р-118. - Оп. 1. - Д. 205.
- Аминов, И. Г. История статистики самоубийств в России в дореволюционную и советскую эпохи / И. Г. Аминов // Социальные аспекты здоровья населения. - иКЬ. http://vestnik.mednet.ru/ content/view/667/30/ (дата обращения: 01.02.2021).
- Естественное движение населения Союза ССР, 1923-1925. - М. : Изд. ЦСУ СССР, 1928. -Вып. I. - 112 с.
- АЗГО. - Ф. Р-118. - Оп. 1. - Д. 43.
- ГАКО. - Ф. Р-13. - Оп. 1. - Д. 10.
- Елагин (Николай Васильевич) / Елагин // Энциклопедический словарь ; издатели: Ф. А. Брок-гаузъ, И. А. Ефронъ. - СПб. : Тип. Литографии И. А. Ефрона, 1891. - Т. Х1А. - 961 с.
- Гернет, М. Н. Самоубийства в 1925 и 1926 гг. / М. Н. Гернет // Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг. - М. : Изд. ЦСУ СССР, 1929. - С. 7-16.
- Родин, Д. П. Движение самоубийств по различным странам за годы войны и после нее / Д. П. Родин // Вестник статистики. - 1924. - № 79. - С. 206-209.
- Тяжельникова, В. С. Самоубийства коммунистов в 1920-е годы / В. С. Тяжельникова // Отечественная история. - 1998. - № 6. - С. 158-173.
- Лебина, Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии, 1920-1930-е годы / Н. Б. Лебина. - СПб. : Нева : Летний Сад, 1999. - 320 с.
- Лебина, Н. Б. Советская повседневность: Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю / Н. Б. Лебина. - М. : Новое литературное обозрение, 2015. - 483 с.
- Сорокин, П. А. Самоубийство как общественное явление / П. А. Сорокин // Социологические исследования. - 2003. - № 2. - С. 104-114.
- Богданов, С. В. Самоубийства в СССР и США в 1920-е гг.: особенности национальных трагедий / С. В. Богданов // Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. - 2010. - № 1. - С. 126-142.
- Любов, Е. Б. К истории отношения общества к суициду / Е. Б. Любов, П. Б. Зотов // Суици-дология. - 2017. - Т. 8, № 4 (29). - С. 9-30.
- Гилинский, Я. Основные тенденции динамики самоубийств в России / Я. Гилинский, Г. Румянцева. - URL. https://narcom.ru/ideas/socio/28. html (дата обращения: 01.02.2021).
- Morrell, S. Suicide and unemployment in Australia 1907-1990 / S. Morrell, R. Taylor, S. Quine, Ch. Kerr // Social Science & Medicine. - 1993. -Vol. 36. - Iss. 6. - P. 749-756.
- Agerbo, E. Social integration and suicide: Denmark, 1906-2006 / E. Agerbo, S. Stack, L. Peterson // The Social Science Journal. - 2011. - Vol. 48. -Iss. 4. - P. 630-640.
- Dos Santos, J. P. More Than just numbers: Suicide rates and the economic cycle in Portugal (19102013) / J. P. Dos Santos, M. Tavares, P. P. Barros // SSM-Population Health. - 2016. - № 2. - P. 14-23.
- Kevan, S. M. Perspectives on season of suicide / S. M. Kevan // Social Science & Medicine. Part D: Medical Geography. - 1980. - Vol. 14. - Iss. 4. - P. 368-369.
- Makinen, I. K. Suicide mortality of Eastern European regions before and after Communist period / I. K. Makinen // Social Science & Medicine. - 2006. -№ 63. - P. 307-319.
- Фицпатрик, Ш. Социальная история Советской России в 30-е годы: город / Ш. Фицпатрик. - М. : РОССПЭН : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. - 336 с.
- Здравоохранение Уральской области за 1925 г. - Свердловск : Уралоблисполком, 1926. - Вып. II. - 135 с.
- Уральское хозяйство в цифрах. 1926 г. : кратк. стат. справочник. - Свердловск : Изд. Ура-лоблстатуправления, 1926. - 393 с.
- Уральское хозяйство в цифрах. 1928 г. : кратк. стат. справочник. - Свердловск : Изд. Ура-лоблстатуправления, 1928. - 571 с.
- Уральское хозяйство в цифрах. 1929 г. : кратк. стат. справочник. - Свердловск : Изд. Ура-лоблстатотдел, 1929. - 587 с.
- Уральское хозяйство в цифрах. 1930. -Свердловск : Изд. статсектора Уралплана, 1930. -Вып. I. - 223 с.
- Итоги десятилетия Советской власти в цифрах. 1917-1927. - М. : ЦСУ СССР, 1927. - 514 с.
- Естественное движение населения РСФСР за 1926 год. - М. : Изд. ЦСУ РСФСР, 1928. - 131 с.
- Государственный архив Свердловской области (далее - ГАСО). - Ф. Р-1812. - Оп. 2. - Д. 18.
- ГАСО. - Ф. Р-1812. - Оп. 2. - Д. 27.
- Уральское хозяйство в цифрах. 1927 г. : кратк. стат. справочник. - Свердловск : Изд. Ура-лоблстатуправления, 1927. - 514 с.
- Состояние дела здравоохранения в Уральской области за 1926 г. - Свердловск : Уралоблзд-равотдел, 1928. - Вып. III. - 169 с.
- Уральский рабочий. - 1923. - 4 июля.
- Уральский рабочий. - 1923. - 26 июля.
- Уральский рабочий. - 1926. - 17 июля.
- Уральский рабочий. - 1926. - 21 июля.