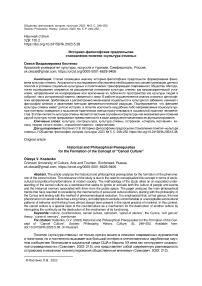Историко-философские предпосылки становления понятия "культура отмены"
Автор: Костенко Олеся Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу историко-философских предпосылок формирования феномена культуры отмены. Актуальность исследования обусловлена необходимостью концептуализации данного понятия в условиях социально-культурных и политических трансформаций современного общества. Методология исследования опирается на расширенное понимание культуры отмены как мировоззренческой установки, направленной на игнорирование или исключение из публичного пространства как культуры людей и событий, так и исторической памяти, связанной с ними. В работе осуществляется анализ основных философских направлений, прибегавших к рассмотрению механизмов социального и культурного забвения, начиная с философии киников и заканчивая методом феноменологической редукции. Подчеркивается, что феномен культуры отмены имеет долгую историю, а попытки исключить неудобные либо неприемлемые социокультурные паттерны поведения и мышления практически всегда присутствовали в социальной практике человечества. В этом контексте культура отмены является частным случаем контркультуры как механизма уничтожения другой культуры путем прерывания преемственности в виде разрушения механизма ее функционирования.
Культура, контркультура, культура отмены, остракизм,
Короткий адрес: https://sciup.org/149143063
IDR: 149143063 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.5.38
Текст научной статьи Историко-философские предпосылки становления понятия "культура отмены"
Крымский университет культуры, искусств и туризма, Симферополь, Россия, ,
Crimean University of Culture, Arts and Tourism, Simferopol, Russia, ,
Лежащий в ее основе запрет отдельной личности или социальной группы на определенный тип действий трансформировался в другую, общекультурную плоскость и приобрел международный и, в отдельных случаях, цивилизационный характер. В настоящее время становится очевидным, что названная «культурой отмены» социальная практика, несмотря на кажущуюся «оригинальность» и «новаторство», имеет в своем основании идеи, которые были разработаны еще на заре возникновения человеческой цивилизации в целом и философской мысли в частности. Несмотря на обилие публикаций в СМИ, научные исследования данной проблемы практически отсутствуют, и данное понятие, безусловно, нуждается в дальнейшей концептуализации. В этой связи первоначально необходимо проследить его историко-философские, мировоззренческие и культурные предпосылки.
Разумеется, истоки данного феномена в первую очередь связываются с практиками остракизма, однако в зависимости от социальных и культурно-исторических условий философия культуры отмены по-разному осмыслялась в процессе развития человеческого общества. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Отметим, что в отличие от древних форм остракизма, предполагавших практику принудительного вытеснения или исключения из актуальных общественных отношений ценностных ориентаций определенной социальной или этнической группы, сегодня инструменты воздействия на неприемлемое большинством поведение социальных субъектов значительно расширились и включают, например «бойкот» публичной активности посредством стирания упоминаний в СМИ (Бойко, 2021: 6); принуждение к навязываемому поведению посредством практик массового психологического воздействия, например буллинга (Бойко, 2021: 7); нарушение прав на свободное выражение собственного мнения в публичном пространстве (Стрекалов, Филиппович, 2021: 39), что, по мнению философа Н. Хомского, представляет собой не что иное, как покушение на нарушение естественного права на свободу слова: «Если мы не верим в свободу выражения мнений для людей, которых мы презираем, мы вообще не верим в это» (Хомский, 2016). Культуру отмены как практику замалчивания достижений в публичном пространстве связывают и с концепцией «спирали молчания» доктора философии и экономики Э. Ноэль-Нойман, которая отмечает, что невозможность выражения собственного мнения (если оно отлично от общественного) вызывает у индивида меньший страх, чем угроза общественной изоляции в результате его озвучивания: «Группы или лица, желающие завоевать общественное мнение, должны позаботиться о том, чтобы их позиции, их взгляды были приемлемыми для других людей и не приводили к изоляции» (Ноэль-Нойман, 1988: 14). В данной связи возникает проблема с пониманием природы общественного мнения, которое может формироваться и высказываться меньшинством, разделяющим предписанные на данный момент социальные и этические нормы и ценности (Ноэль-Нойман, 1988: 15). Мередит Д. Кларк, описывая культуру отмены в контексте движения «Black Lives Matter», называет ее снятием ограничений с публичного пространства, преодолением контроля социальных элит и стратегией вызова регламентирующим способностям доминирующей культуры (Clark, 2020: 88–92). Однако проблема здесь заключается как в боязни манифестации противоположного мнения, попытках его уничтожения и стремления к унификации общественного мышления, так и в том, что «в случае с культурой отмены нормы морали озвучивает некто, кто сам себя назначает экспертом правильного или неправильного» (Симхович, 2022: 215).
Таким образом, под культурой отмены в данной статье понимается любая мировоззренческая установка, предполагающая как игнорирование, так и искоренение не только культуры ныне живущих людей, но и событий, связанных с их прошлым, а также сопряженных с ними интенций в возможное будущее. В данном ключе современная культура отмены представляет собой своеобразный «рецидив», частный случай контркультуры (Костенко, 2022: 25-30). Последняя интерпретируется в негативном ключе не просто как ценностно противоположная версия «возможной» (в данных исторических условиях) культуры, но и как образ жизни, сущностно не совместимый с умением «жить, не мешая другим» (Ульянов, 2007: 227), радикально отрицающий принципиальную возможность параллельного существования принципиально «иной» культуры.
Обращаясь к истории человечества, отметим, что социальная иерархия в разных культурных центрах создавала предпосылки для возникновения подобной мировоззренческой установки не только на Западе, но и на Востоке. Так, одним из наиболее древних примеров реализации практики культуры отмены является традиционное отношение к «неприкасаемым» в Индии, которые, частично находясь в системе социальных связей, длительное время пребывали вне вар-нового разделения. Разумеется, оговорим, что приведенный пример связан с религиозными основаниями данного типа общества.
Если обратить внимание на западноевропейские философские основания культуры отмены, то ее предпосылки можно усмотреть еще в рассуждениях древнегреческих киников, придерживавшихся идеи «жить по природе» (cata physin) и презрительно относящихся к письменной культуре, воспитанию и грамотности: «Все естественное, природное, простое прекрасно, все ис- кусственное, украшательское, лакировочное и вычурное безобразно, ибо оно искажает “при-роду”»1. В данном случае фактическое отождествление культуры и природы нивелирует сущность первой как специфического способа организации жизни человека. В качестве особенности кинизма отметим, что культура отмены в данном случае самонаправлена: своими эпатажными выходками и космополитическими рассуждениями киник добровольно отгораживает себя от сложившейся системы социальных связей.
Казнь философа Сократа также можно рассматривать в качестве одного из самых известных примеров воплощения идеи культуры отмены. Популярной интерпретацией данного события является следующая: судебное заседание было поводом к тому, чтобы побудить Сократа добровольно покинуть Афины. В «Апологии Сократа» сам философ, в частности, также допускает эту мысль: «Или назначить себе наказанием изгнание (здесь и далее выделено мной – О.К. )? Это наказание и вы, быть может, готовы были бы назначить. Сильно, однако же, оказался бы я привязанным к жизни, если бы был настолько несообразительным, что не мог бы сообразить вот чего: вы, мои сограждане, не в состоянии были вынести моего у вас пребывания и моих бесед; оно стало для вас слишком тягостным и противным , так что вы стремитесь теперь от него освободиться. <…> Хороша была бы моя жизнь – <…> жить повсюду гонимому! »2. Сам Сократ, рассуждая о своем смертном приговоре, отмечает, что невозможно угрозами смерти или изгнанием заставить людей замалчивать истину, отступиться от своих взглядов и не осуждать неправильные воззрения большинства3.
В контексте рассмотрения заявленной проблемы в пространстве античной культуры обратим внимание на то, что одной из важных историко-культурных предпосылок культуры отмены можно считать (названный нашими современниками) ритуал «Damnatio memoriae» (от лат. «проклятие памяти») именующий юридическую форму наказания в Древнем Риме. Оно практиковалось посмертно применительно к людям, осужденным за преступления против государственной власти, а в некоторых случаях ‒ к членам их семей и даже к императорам, запятнавшим свою репутацию (например, таким как Калигула). В качестве исполнения наказания искоренялись любые артефакты, указывающие на существование данного человека или группы лиц. К примеру «имя императора удалялось из документов и публичных надписей (этот процесс известен как abolitio nominis), его лицо соскабливали с фресок, посвященные ему статуи разбивались. Порой даже переплавлялись монеты с изображением бывшего правителя. Осужденному императору не только отказывали в восхождении на небеса, но и вычеркивали из истории (выделено мной – О.К. )»4. Отметим, что в масштабе мировой истории аналогичные практики имели место и в других культурных центрах разных эпох, начиная с Древнего Египта и вплоть до современности, о чем выше уже было сказано.
В рамках нашего исследования обратим внимание на то, что гонения на христиан в Римской империи в первые века новой эры также можно рассматривать в контексте культуры отмены: здесь очевидно противостояние доминирующей культуры и контркультуры. При этом указанный процесс впоследствии получил «зеркальный эффект»: узаконенное в качестве государственной религии христианство также различными способами пыталось отменить римское язычество, как враждебную контркультуру. Средневековые теологические практики, связанные с обоснованием догматики, защитой христианского вероучения и запретом определенных текстов, транслирующих иную точку зрения также можно рассматривать в контексте предпосылок культуры отмены. Примечательно, что одна из ключевых работ Ф. Аквинского имеет характерное название ‒ «Сумма против язычников» («Книга об истине католической веры против язычников»)5 (выделено мной – О.К. ).
С наступлением эпохи Великих географических открытий и обнаружением разнообразия человеческих рас идеи допустимости искоренения чужой культуры постепенно получают в Европе активное распространение. Так, немногим позже они прослеживаются во взглядах Ж.А. де Гобино, считавшего, что человеческие расы неравны и что более «высокая» белая раса «вырождается» от смешения с другими (Гобино, 2001). Тем самым в дискурсе общего мнения была актуализирована мысль о том, что необходимо отграничение от культур других народов.
Следует также обратить внимание на идейное наследие французских просветителей, в частности, на концепцию Ж.-Ж. Руссо, в которой предлагается отказ от европейского культурного наследия. Он репрезентирует метафору обнаженного атлета, разрывающего и скидывающего цепи опоясавшей его культуры (Руссо, 1998: 28).
В качестве одной из концепций, предвосхитивших мировоззренческое обоснование идеи культуры отмены, следует назвать и теорию «злого гения» (le malin génie) разработанную Р. Декартом, в рамках которой предлагался определенный мысленный эксперимент, связанный с поиском оснований существования мира и мыслящего субъекта (Декарт, 1950). Оставив в стороне онтологические аспекты, отметим саму скептическую установку на возможность исключения всего знания о мире из опасения внушения «другим субъектом», в том числе и внутреннего, подразумевающего социокультурную обусловленность, которое (в рамках философской доктрины Декарта) может быть ложным и, следовательно, отторгнутым для чистоты рассуждения о себе и мире. Данную установку в контексте современных концепций культуры отмены можно интерпретировать как рационализацию легитимности запрета на другие ценностные ориентации, которые могут быть инкультурированы либо аккультурированы (внушены) представителем чуждой культуры, причем не только каким-то субъектом, но и продуктом его творчества (в данном случае – произведением искусства). Например, нынешнее исключение из репертуара и даже повсеместные запреты на воспроизведение театральных или музыкальных произведений классического русского искусства в странах Запада являются элементами борьбы с влиянием другой культуры на сознание человека. В данном случае любого русского автора европейская пропаганда может преподносить как «злого гения», транслирующего ценности, чуждые европейскому самосознанию1.
В рассуждениях Ф. Ницше также можно усмотреть явную установку на исключение определенного типа культуры, в данном случае – христианской. Концепция сверхчеловека, свободного от навязанных общественных норм, от рабской (христианской) морали, также входит в дискурс культуры отмены, что хорошо заметно в следующем высказывании: «Я рассматриваю христианство как самую роковую ложь соблазна, какая только была на свете, как великую и несвятую ложь: я выдергиваю поросль и выскребаю плесень (здесь и далее выделено мной – О.К. ) этого идеала из-под всех и всяческих облицовок, я отвергаю любые позиции в пол и в три четверти оборота к нему, ‒ я принуждаю только к войне с ним . Нравственное сознание маленьких людей как мера всех вещей ‒ это самое отвратительное вырождение из всех, какие до сей поры являла культура. И такого рода идеал продолжает висеть над человечеством!» (Ницше, 2005: 131). Рассуждая о культуре в негативном ключе как о дегенерации (Ницше, 2005: 376), Ф. Ницше, тем не менее, отвергает только европейскую (христианскую) культуру своего времени, что не мешает ему продуцировать идею человека с новыми нормами морали (сверхчеловека). Обратим внимание на то, что ницшеанская контркультурная установка примечательна еще и тем, что в ней заложены интенции перехода от пассивных философских рассуждений к радикальным действиям, которые значительно позже, в конце ХХ – начале ХХI вв., благодаря развитию и внедрению информационных технологий получили глобальное распространение.
Следующей предпосылкой к формированию мировоззренческой идеи культуры отмены является, на наш взгляд, феноменологический принцип «эпохе» (epoche) ‒ воздержания от суждений о предмете вне человеческого сознания и «заключение в скобки» (Гуссерль, 2009: 154) имеющихся знаний о мире, универсальный запрет на субъективность. Этот принцип также может быть рассмотрен в качестве предпосылки обоснования установки на исключение мнений, которые могут потенциально воздействовать на имеющуюся картину мира.
В рамках психоаналитического подхода также можно интерпретировать реализацию культуры отмены как социальное отражение сублимации: идея физического устранения неугодной культуры определенной социальной или этнической группы заменятся символическим удалением ее из пространства ценностей и смыслов. Ритуальное сожжение книг с запрещенным культурным содержанием в нацистской Германии середины ХХ века и в современной Украине убедительно манифестирует данный процесс. При этом подобная практика культуры отмены, физически прерывая процесс межпоколенной трансляции и актуализации культурного наследия, пытается разрушить механизм ее функционирования и фактически «убить» данную культуру как таковую.
Таким образом, в результате проведенного историко-философского анализа можно утверждать, что, несмотря на кажущуюся новизну данного феномена современной культуры, истоки его можно обнаружить еще в античности и проследить по всем эпохам развития человеческого общества. Культура отмены, даже при крайне негативном отношении к культуре вообще (например, у Ф. Ницше), не предполагает полного ее нивелирования, а допускает лишь замену неприемлемых норм и ценностей на другие, что сближает данный феномен с контркультурой. Как мы видим, данная установка, как правило, имела явный идеологический подтекст, поэтому она, как показывает современная геополитическая практика, может быть использована для достижения разных целей, допуская вариативность механизмов реализации. Содержательное наполнение современной версии культуры отмены обеспечивает активно популяризируемая в последние десятилетия идеология «европоцентризма», возведшая в абсолют псевдолиберальные ценности и вытекающий из них образ жизни, безальтернативно навязываемый в западных странах. Все это требует осмысления средствами современной науки. Дальнейшая концептуализация рассматриваемого в статье понятия культуры отмены предполагает проведение историографического анализа, а также выявление не только историко-философских, но и социально-культурных предпосылок и оснований современной интерпретации данного феномена.
Список литературы Историко-философские предпосылки становления понятия "культура отмены"
- Бойко А.В. Девиантологический потенциал «культуры отмены» // Таврические студии. 2021. № 28. С. 4-8.
- Гобино Ж.А. Опыт о неравенстве человеческих рас. М., 2001. 764 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М., 2009. 489 с.
- Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. 712 с.
- Костенко О.В. Структурно-функциональные основания типологии интерпретаций контркультуры // Таврические студии. 2022. № 32. С. 25-30.
- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. 880 с.
- Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. 352 с.
- Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. 416 с.
- Симхович В.А. Культура отмены как инструмент манипулирования общественным // Современный социум: социология жизни (междисциплинарный профиль). Минск, 2022. С. 212-219.
- Стрекалов Г.С., Филиппович Ю.С. О некоторых особенностях феномена «культуры отмены» // Коллекция гуманитарных исследований. 2021. № 1 (26). С. 36-41. https://doi.org/10.21626/j-chr/2021-1 (26)/5.
- Ульянов М.А. Реальность и мечта. М., 2007. 400 с. Хомский Н. Избранное. М., 2016. 718 с.
- Clark M.D. Drag Them: A Brief Etymology of So-Called «Cancel Culture» // Communication and the Public. 2020. Vol. 5, iss. 3-4. P. 88-92. https://doi.org/10.1177/2057047320961562.