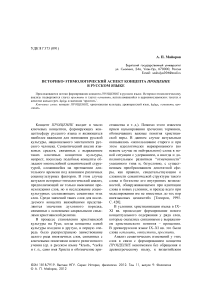Историко-этимологический аспект концепта прощение в русском языке
Автор: Майоров Александр Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Способы языковой репрезентации картины мира
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Прослеживаются истоки формирования концепта ПРОЩЕНИЕ в русском языке. Историко-этимологическому анализу подвергаются глагол простить и глагол оставити, использовавшийся в церковнославянских текстах в качестве кальки греч. ¢f…hmi взначении ‘простить’.
Концепт прощение, христианская культура, древнерусский язык, оставити, простить
Короткий адрес: https://sciup.org/14737946
IDR: 14737946 | УДК: 81’373
Текст научной статьи Историко-этимологический аспект концепта прощение в русском языке
Концепт ПРОЩЕНИЕ входит в число ключевых концептов, формирующих кон-цептосферу русского языка и являющихся наиболее важными для понимания русской культуры, национального менталитета русского человека. Семантический анализ языковых средств, связанных с выражением таких ключевых концептов культуры, непрост, поскольку подобные концепты обладают многослойной семантической структурой, сложившейся на протяжении длительного времени под влиянием различных социокультурных факторов. В этом случае актуален историко-этимологический анализ, предполагающий не только выяснение происхождения слов, но и исследование социокультурных составляющих семантики этих слов. Среди значений таких слов для исследуемого концепта важнейшими представляются значения духовного порядка, связанные с основными сакральными смыслами христианской религии.
В процессе становления христианской культуры на Руси, когда концепты одной культуры входили в другую, в первую очередь было распространено заимствование целого ряда иноязычных слов, связанных с ключевыми понятиями нового религиозного учения (ср. в русском языке *krьstъ, *cьrku и т. п., само имя Христа и обозначение хри- стианства и т. д.). Помимо этого известен прием калькирования греческих терминов, обозначавших важные понятия христианской веры. В данном случае актуальным оказывалось «использование старого и при этом идеологически маркированного (во всяком случае не нейтрального) слова в новой ситуации с удержанием, а иногда и дополнительным развитием “отмеченности” указанного типа и, безусловно, с существенным преобразованием денотатной сферы, как правило, свидетельствующим о сложности семантической структуры такого слова и богатстве его внутренних возможностей, обнаруживающемся при адаптации слова в новых условиях, и прежде всего при моделировании им не известных до тех пор внеязыковых ценностей» [Топоров, 1995. С. 420].
В условиях христианизации языка в IX– XI вв. происходит формирование нового концептуального содержания у ряда слов, которые оказались связанными с выражением христианского понятия – прощения. В древнерусском языке IX–XI вв. это были слова оставити , отпустити , простити .
Анализ семантических изменений у этих слов в связи с формированием концепта ПРОЩЕНИЕ невозможен без обращения к древнегреческому языку, к византийским
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © А. П. Майоров, 2012
оригинальным текстам, откуда черпались новые религиозные понятия и слова, выражающие их. К семантическим грецизмам относится слово оставити в значении ‘простить’, калькированное с греческого глагола ¢f…hmi.
Если рассмотреть ¢f…hmi подробнее, то в древнегреческом языке у этого слова обнаруживаются следующие значения: 1. а) отпускать, отсылать, отправлять; пускать, метать; издавать (звук), произносить (слово), испускать вопли, стоны, проливать слезы и т. п.; б) отпускать на волю, освобождать кого-либо от чего-либо; оправдывать (по суду); с) отпускать (долг, платеж, подати). 2. отплывать [Курс греческого языка, 1914. С. 224].
В сакральных текстах у слова ¢f…hmi в сочетании со словами ¢mart…a, ¡m£rthma ‘проступок, заблуждение, грех, ошибка’; ‘долг’ и др. актуализируется значение ‘прощать, отпускать’. Например: diÒti o„kte…rmwn kaˆ ™le»mwn Ð kÚrioj, kaˆ ¢f…hsin ¡mart…aj kaˆ sèzei ™n kairù ql…yewj. [Изборник 1076 г., 1969. 187. С. 760], в церковнославянском переводе: зане штедрь и милостивъ г҃ь и оставить грѣхы и спс҃аѥть въ врѣмѧ печали [Там же. 187. С. 318–319]. Слово оставить в этом контексте выступает в значении ‘освобождает от грехов, спасает, сохраняет’, а семантическим агенсом у него выступает Бог как высший судья, имеющий право отпускать грехи.
Для языкового сознания и шире, для христианского менталитета древнерусского книжника соотнесение греч. ¢f…hmi и рус. оставити представляло прежде всего сопряжение в русском слове христианского смысла концепта ПРОЩЕНИЕ с «мирским» конкретным значением действия удаления от чего-либо, отстранения от какого-либо объекта действия (ср.: оставить книгу на столе , оставить город ).
В древнерусском языке глаголы остави-ти, оставляти были многозначными и употреблялись в значениях ‘оставлять в стороне, пропускать, не упоминать’, ‘останавливать, не позволять’, ‘удалиться, покинуть что-либо’, ‘отпускать грехи’ [Срезневский, 1989. С. 737–738]. Отглагольное существительное оставление выступало со значениями ‘отпуск, освобождение’, ‘отсутствие внимания к кому-нибудь’, ‘прощение’ [Там же]. Характерно то, что русское оста-вити в IX–XI вв., выступая в исконном зна- чении, сохранившемся до сих пор, – ‘удалиться, покинуть что-либо’, полностью соответствовало греч. ¢pole…pw ‘оставить, покинуть что-либо’. В данном случае в древнерусских текстах оставити в этом значении является не калькой, а переводом греч. ¢pole…pw. Например: ouk, ¢pole…fqhn tÁj, ¡g…aj ™kklhs…aj [Изборник 1076 г., 1969. 109 об. С. 725], в церковнославянском переводе: не оставихъ црк҃ве бж҃иѧ [Там же. 109 об. С. 476], где оставихъ выступает в значении не ‘удалился, не отдалился’ (от церкви).
Если рассмотреть семантическую структуру греческого слова ¢f…hmi, то ядерным, интегральным семантическим признаком выступает сема ‘отправить, удалить что-либо от себя’; при этом здесь актуализированы, с одной стороны, динамика объекта действия, которая подчеркивается семантикой префикса -¢f-, соответствующего русской приставке - от -, с другой стороны, активность субъекта действия, который что-либо «удаляет».
Когда конкретный объект действия сменяется абстрактным, то возникает возможность метафорических переносов значения в связи с употреблением слова в священных текстах: ¢f…hmi dÒru ‘метать копье’ → ¢f…hmi lÒgon ‘произносить слово’ → ¢f…hmi ¢mart…a ‘прощать’, буквально ‘отстранять от себя (или от кого-л.) грех, отпускать’.
В морфемной структуре древнерусского слова оставити приставка о - могла иметь словообразовательное значение ‘отстранение от чего-либо’, т. е. приставка о - выступала как алломорф приставки от -. Это подтверждается материалом русских народных говоров (пск. остановить – отстановить ), а также употреблением аналогичных пре-фискальных образований с одной и той же семантикой в истории русского языка (ср., например, в XVIII в.: обирать – отбирать ).
Таким образом, для всех значений древнерусского оставити была характерна сема ‘покинуть что-либо, удалить что-либо или удалиться от чего-либо’, где подчеркивается активность действия, направленного на ка-кой-л. объект, самого агенса. Она была присуща семантике греческого слова ¢f…hmi, которое калькируется древнерусским глаголом оставити в значении ‘освободить от грехов’. Здесь уже актуализируется действие субъекта прощения – Бога, который проща- ет всех нас, потому что мы – люди и никто из нас не свободен от греха.
В этом отношении глаголу оставити синонимичен глагол отпустити , сохранивший значение ‘простить (грех, вину и т. п.)’ в современном русском языке. У слова от-пустити субъектом прощения также является Бог или посредник (священнослужитель), которые снимают вину с человека независимо от того, раскаялся он или нет: 1исъ же глаголаше: Оче, Кп^сти имъ: не в^датъ бо что твордтъ (Иисус же говорил: Отче! прости им; ибо не знают, что делают) [Святое Евангелие, 1914. Евангелие от Луки, гл. 23, 34]. В данной ситуации просьбы о прощении Иисус обращается к Богу, чтобы он простил людей, которые совершают грех, распиная невиновного, но при этом виноватыми себя не считают. Налицо отсутствие какого-либо раскаяния, покаяния у распинавших.
Наряду с глаголом оставити в значении ‘простить’ в старославянских переводах греческих священных книг и затем – в древнерусских текстах употребляется глагол простити . Он также является многозначным, выступая в следующих значениях: 1. освободить: прости мд отъ в’с^хъ Зълъ; 2. отпустить, простить (грехи и т. п.): мок блжжденик прости простивъши ны... помоли са христ(ос)оу; 3. разрешить, позволить: прости ма брате каяти себе [Старославянский словарь, 1999. С. 527].
Глагол простить представляет собой производное образование от прилагательного простъ , в древнерусском языке употреблявшегося в значениях ‘прямой, свободный, открытый, простой’ [Фасмер, 1986. С. 418]. Активное развитие в глаголе и других производных получает сема ‘свободный от че-го-л., простой’.
Материалы русских говоров свидетельствуют, что в народно-разговорном языке с давних времен слово простить употреблялось со значениями ‘сделать что-либо прóстым (т. е. пустым. – А. М .); избавить от бремени, излечить; разрешить от чего-либо’: Прóстить нéрпу (арх.) ‘извлечь внутренности’; Рыбу сокращают, простят, укрощают, она усыпает (промышл.). ‘очищают от внутренностей’; Бог прости́ л родильницу (с.-в., опростал, т. е. ‘освободил от бремени’) [Даль, 1989. С. 513].
Практически во всех славянских языках существуют слова с корнем прост -, имеющие похожие значения: простя́ (болг.) ‘прощу’; про́ стити , прőстûм ‘простить’ (сербохорв.); prostíti prostím , ‘простить’ (словенск); prostiti ‘освободить’ (чеш.) [Фасмер, 1986. С. 418].
Примечательно то, что именно в южнославянских языках (болгарском, сербохорватском, словенском) у глагола простить семантическое изменение ‘освободить что-либо’ → ‘простить что-либо’ осуществилось полностью. Немаловажную роль в этом случае сыграла христианизация южно- и восточнославянских народов, где церковнославянский язык выступал непосредственным проводником христианских идей между византийским и славянским миром.
Не получила указанного развития семантика слова простить в западнославянских языках: в чешском языке prostiti имеет значение ‘освободить’, а значение ‘простить’ выражается лексемами prominout и odpustit ; в польском есть только прилагательное prosty ‘простой; прямой’, значение же ‘простить’ передается глаголами wybacsyć и przeprosić się . Возможно, здесь сыграли свою роль иные социально-культурные условия: католицизм, латинизация культуры и языка явились препятствием для выражения концептуальной идеи ПРОЩЕНИЕ посредством слова простить .
В дальнейшей истории русского языка наблюдается постепенное вытеснение словом простить глагола оставить в значении ‘простить’. Слово оставить в указанном значении в XVI–XVII вв. уже не встречается. В то же время в синонимические отношения со словами простить , прощение вступают лексемы извинить ( ся ), извинение , первоначально употреблявшиеся соответственно в значениях ‘провиниться; признать свою вину’ и ‘упрек, обвинение’ [Словарь древнерусского языка, 1990. С. 470].
Указанное вытеснение происходит не в силу многозначности слова оставить, а в силу семантической неопределенности этого глагола, поскольку многозначность слова в речи снимается, а семантическая неопределенность остается: одна и та же лексикосинтаксическая позиция, тот же переходный глагол, тот же объект действия в В. п., однако значения реализуются разные (ср. оста- вить грехи, оставить город). Но, пожалуй, главная причина замещения оставить глаголом простить состоит в том, что концепт ПРОЩЕНИЕ получил дальнейшее развитие на восточнославянской почве и это отразилось прежде всего на языковых средствах его выражения, в частности на семантической модификации слов с корнем прост-. Глагол простить по своей внутренней форме более адекватно выражал смысл христианской морали в древнерусском языке. В новой ситуации слово простить в своей семантике парадоксальным образом сочетало архаичное и инновационное. Активность древней семы ‘очищение чего-либо от содержимого’, подтверждаемая материалом различных русских говоров, соотносится с актуальностью новой семы ‘духовное очищение’. Акт прощения представляется не как внешнее отторжение грехов от человека Богом, где направленность удаления объекта (проступков, грехов) от человека выражалась греч. ¢f…hmi и его церковнославянской калькой оставити. У глагола простить агенсом выступает уже человек, и «прощающий других людей человек наделяется равной с Богом действенной способностью» [Томильцева, 2010. С. 5]. Немаловажно то, что у слова простить в отличие от оставити происходят определенные семантические сдвиги, отражающие различия между религиозным и светским пониманием прощения. В христианской этике суть прощения заключается в том, что человек должен прощать всех, так как Бог предназначает любить внутреннее «я» каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим свое «я» [Льюис, 1992. С. 338]. В светской этике прощают по разным причинам, и нередко проступок провинившегося предается забвению в силу великодушия, незлопамятности субъекта: Фома, Фома! – вскричал дядя, – …Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! [Достоевский, 1972. С. 154].
На первый план здесь выступает понятие внутреннего очищения, душевной свободы, нравственного «опрощения», поскольку грехи, проступки ассоциируются с ощущением того, что «камнем лежит на сердце, давит душу» и пр. – т. е. с ощущением тяжести и сложности, которое должно про- стить. В этой связи характерно появление сочетания простить кого-либо наряду с простить что-либо. В концепте ПРОЩЕНИЕ представление о «хирургическом» удалении греховных дел (оставити грѣхы) сменяется представлением об освобождении души человека от чувства вины за тот или иной проступок (простити кого-либо). Лексическая сочетаемость слов оставити и простити в Изборнике 1076 г. свидетельствует об указанных семантических различиях: гако прости мд владыко : гаже съгр^шихъ досел^ [Изборник 1076 г., 1969. 217 об. С. 583]; рече испов^мъ на сд без-аконига свога гви и тъ оставить бештьк срдца мокго [Там же. С. 13]; ...говорил: исповедуюсь о беззаконии своем господу, и тот простит бесчестье сердца моего.
Особенности концепта ПРОЩЕНИЕ проявляются также в ситуации, когда агенсом выступает тот, кто просит прощения. Он движим чистосердечным раскаянием, и это может вызвать у адресата прощение. В качестве имплицитного смысла раскаяние присутствует в семантике слова простить : Ср. Я виноват и прошу простить меня при невозможности * Я не виноват и прошу простить меня . Такой пресуппозиции нет у слов оставити , отпустити , поскольку субъект прощения – Бог или посредник в роли священнослужителя, прощает человека независимо от его раскаяния.