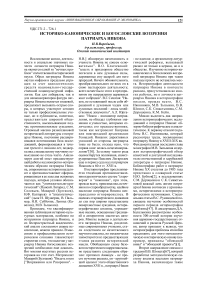Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона
Автор: Воробьева Н.в
Журнал: Инновационное образование и экономика @journal-omeconom
Рубрика: Духовная культура
Статья в выпуске: 7, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14321812
IDR: 14321812 | УДК: 271.2
Текст обзорной статьи Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона
Исследование жизни, деятельности и социально значимых качеств личности патриарха Никона является одной из "вечных проблем" отечественной исторической науки. Образ патриарха Никона окутан мифами и предельно упрощен за счет идеологических средств национально-государственной социокультурной мифологии. Как для либералов, так и для неоконсерваторов фигура патриарха Никона является знаковой, продолжает вызывать острые споры, в которых участвуют сегодня не только профессиональные ученые, но и публицисты, политики, представители широкой общественности, высказывающие подчас противоположные суждения. Огромный массив разноплановой исторической литературы о патриархе Никоне, постоянно расширяющаяся источниковая база исследований, формирующаяся в течение трехсот с лишним лет, подвергались специальному научному осмыслению не столь часто. Анализируя долгий опыт предшествующей работы над конкретно-историческим образом патриарха Никона, современные историки выделяют и противопоставляют сформировавшиеся в ее ходе два основных подхода, которые условно обозначаются как "уничижительно-критический" (Паисий Лигарид, С.М. Соловьев, Макарий (Булгаков), Н.Ф. Каптерев) и "апологетический" (дьяк И. Шушерин, В. Паль-мер, Н.И. Субботин, Леонид (Кавелин), М.В. Зызыкин).
Признаем, что квалифицированная публикация историко-культурных материалов, особенно по воззрениям патриарха Никона, и их беспристрастный академический анализ составляют скорее исключение, нежели правило. В массовом и профессиональном историческом сознании главенствует стереотип о том, что наличие у патриарха Никона богословских воззрений необходимо еще доказать. Вот мнения маститых русских историков на этот счет. Митрополит Макарий (Булгаков): "Видеть в нем ["Возражении или Разорении". -
Н.В.Воробьева, д-р.ист.наук, профессор, Омский экономический институт
Н.В.] обширную начитанность и ученость Никона не совсем основательно ". В.О. Ключевский: "власть и придворное общество погасили в нем духовные силы, дарованные ему щедрой для него природой. Ничего обновительного, преобразовательного не внес он в свою пастырскую деятельность; всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных книг и обрядов". В.Г. Сенатов: "Никон, не оставивший после себя обращений к духовным чадам или духовных посланий - лишь хозяйственные документы". А.Л. Юрга-нов: "Никон - инициатор исправления, не обладал глубокими знаниями и ученостью, которыми отличались его предшественники, такие как митрополит Киприан или новгородский архиепископ Геннадий. Никаких директивных указаний со стороны патриарха тоже не было; отсюда ясно, что справа книг велась нецеленаправ-ленно"[30]. За основу такого рода оценок берутся положения, сконструированные Паисием Лигаридом еще в период суда над патриархом Никоном в 60-е гг. XVII в.
В историографии прослеживается тенденция противопоставления идеологических систем "старо-верия" и "никониан", при этом, прежде всего, привлекались источники по старообрядчеству, идейное наследие патриарха Никона неоправданно игнорировалось. В оценках староверческого движения до сих пор широко представлены поверхностные суждения, историографические штампы, упрощенные оценки, освещенные традицией и авторитетом маститых авторов. Многие выводы о деятельности патриарха Никона, разделяемые современными учеными, стали следствием не качественного научного анализа, но механически заимствуются из предшествующих этапов развития исторической мысли. Обобщенную схему базового исторического нарратива можно представить следующим образом: протопоп Аввакум - не просто мученик раскола, он - крупнейший идеолог этого общественного движения XVII в., патриарх Никон
- не идеолог, а организатор литургической реформы, вызвавшей раскол не только в церкви, но и в обществе. Изучению историко-канонических и богословских воззрений патриарха Никона при таком подходе просто не оставалось места. Историография деятельности патриарха Никона в контексте раскола, присутствовала во многих работах, но о личности патриарха Никона в историографии писали, прежде всего, В.С. Иконников, М.В. Зызыкин, В.В. Шмидт, С.К. Севастьянова, С.М. Дорошенко, К.М. Кейн.
Можно выделить два направления историографических исследований о патриархе Никоне: обзорно-библиографическое и аналитическое. К первому относятся работы В.С. Иконникова, который рассмотрел труды, посвященные патриарху Никону в XVIII-XIX вв. Фундаментальная последняя глава монографии М.В. Зызыкина содержит историографический обзор известной и доступной исследователю отечественной и зарубежной литературы о патриархе Никоне. Библиографию работ о патриархе Никоне XX столетия до 1985 года представил в словарной статье Н.Ю. Бубнов[2], в исследованиях С.М. Дорошенко и С.К. Севастьяновой каждый день жизни патриарха Никона соотнесен с архивными, историческими и историографическими источниками. Специальная статья В.С. Румянцевой посвящена изучению особенностей первого периода историографии проблемы[47]. В диссертации Д.А. Балалыкина рассмотрены особенности 300-летней истории изучения церковно-государственных отношений и раскола Русской Церкви, автор приходит к выводу, что историография проблемы способна предложить для этого методологическую и историческую основу (например, принципы "обоюдной вины" и "обоюдной правоты")[1].
Второе направление связано с трудами В.В. Шмидта[67], который разработал методологическую систему анализа наследия патриарха Никона, включающую такие методы как иеротопический, индуктивно-дедуктивный, просопог-рафический и идеографический, феноменологический; историкосемиотический, структурно-функциональный. Научное направление заданное исследовательской программой В.В. Шмидта представляется нам наиболее перспективным и открывающим возможности исследования как теоретикометодологических основ "мифологизации-демифологизации" образа патриарха Никона, так и его воззрений.
Подобная историографическая ситуация определяет научную актуальность и значимость нашего исследования.
Цель исследования - реконструкция и интерпретация историкоканонических и богословских воззрений патриарха Никона в общем контексте богословских споров третьей четверти XVII в., соотнесенных с накопленными в отечественной исторической науке традициями их изучения. В соответствии с поставленной целью определены следующие основные задачи исследования:
-
- выявить содержание традиций почитания (как местночтимого святого) и "хуления" патриарха Никона, их развитие в научно-критической светской и синодальной историографии (XVIII-XIX вв.), историографии советского и постсоветского периода, эмигрантской и зарубежной историографии (XXXXI вв.);
-
- исследовать основные структурообразующие элементы воззрений патриарха Никона посредством проведения дискурсного контекстологического анализа его основного сочинения - "Возражения или разорения смиренного Никона, Божиею милостью Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ли-гаридусу и на ответы Паисеовы";
-
- сопоставить церковно-канонические и исторические воззрения патриарха Никона и теоретиков догматико-полемической традиции раннего раскола;
-
- рассмотреть место и роль концепции пастырства патриарха Никона в общественно-политической и богословской мысли России.
Объект исследования - идейное наследие патриарха Никона.
Предмет исследования - система и характер воззрений патриарха Никона как государственного и церковного деятеля. Отметим, что выделить собственно исторические взгляды вне богословского контекста церковного деятеля середины XVII в. не представляется возможным.
Хронологические рамки, с известной долей условности, заданы объектом и предметом нашей работы, охватывают период с 1658 по 1666 гг., т.е. со времени удаления патриарха Никона с престола до Собора 1666-1667 гг. Система воззрений патриарха Никона была оформлена в виде цельного трактата, хотя и полемического историко-канонического характера, подчиненного конкретной цели - "Возражению или Разорению…" выдвинутых против него обвинений уже после оставления престола (1662-1663 гг.), хотя в основных чертах она формировалась со времени его иеромонашества в Анзер-ском скиту, т.е. с 1635 г.
Методология и методы исследования определяются особенностями объекта исследования.
Общенаучные методы исследования, примененные в работе: совокупность принципов историзма, социальности, научной объективности. Сложный синтетический характер изучаемого объекта не поддается достаточно полному описанию и исследованию с позиций какой-либо отдельно взятой науки, теории или концепции, поэтому в исследовании применяются методические наработки смежных гуманитарных наук (лингво-культурологии, семиотики, философии, религиоведения и литературоведения). Исходной исследовательской парадигмой исследования является интеллектуальная история, которая изучает идеи через культуру, биографию и социокультурное окружение их носителей методами просопографии [48].
Научное направление заданное исследовательской программой В.В. Шмидта, представляется нам наиболее перспективным и открывающим возможности исследования как теоретико-методологических основ "мифологизации-демифологизации" образа патриарха Никона, так и его воззрений.
Ключевым понятием работы выступают "историко-канонические воззрения", под этим термином понимаются содержащиеся в установленных Церковью и относящиеся к взаимоотношениям Церкви и государства, а также жизни верующих правила, совокупность которых представлена в идейном на- следии патриарха Никона.
Актуальность теории интерпретации текстов приводит к необходимости использования следующих специальных методов: историко-системный и историко-сравнительный, историко-семиотический методы, а также дискурсивный семантико-когнитивный анализ. Тексты, представленные в идейном наследии патриарха Никона рассматриваются в работе как пространство, выраженное знаками, символами, образами, "сущностными свойствами культурного бытия, автора текста"[16]. У патриарха Никона нет специальных богословских трудов. Его рассуждения разбросаны по работам, посвященным самым разным проблемам. В связи с этим первоначально был применен метод дискурсного анализа, с целью вычленения рассуждений, имеющих отношение к историко-канонической составляющей воззрений патриарха Никона. Отобранные таким образом тексты систематизировались, после чего, с использованием метода синтеза, были реконструированы основные положения историко-канонических и богословских взглядов патриарха Никона. В отличие от антропоцентричных моделей, модель картины мира патриарха Никона была христоцентрична, соединяла онтологическое, аксиологическое и эстетическое восприятие действительности. Мы исследуем концептосферу религиозного дискурса патриарха Никона через анализ текстовых фрагментов его произведений. В "Возражении или Разорении" патриарха Никона представленные в виде библейской цитации (маркированные, немаркированные, парафраз) текстовые фрагменты, исследуются с помощью методов сплошной и фронтальной выборки.
Источниковая база исследования. Выбор источников продиктован целью и основными задачами исследования.
В первую группу вошли тексты, вышедшие из-под пера патриарха Никона и позволяющие реконструировать и интерпретиро- вать его идейное наследие. Из многогранного идейного наследия патриарха Никона вычленены лишь те труды, которые отвечают целям данного исследования. Их анализ позволяет проследить эволюцию воззрений патриарха Никона в контексте определенной эпохи, осмыслить единую парадигму его творчества. В их число вошли рукописи, хранящиеся в фондах Российского государственного архива древних актов (г. Москва)[45], а также опубликованные источники - "Возражение или разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина С. Стрешнева, еже написа Газско-му митрополиту Паисию Лигари-диусу и на ответы Паисеовы", "Духовные наставления царю / хрис-тианину"[5], гомилетическое на-следие[52]. В этих памятниках зафиксировано не только полемическое наследие патриарха, как было принято считать в литературе, они позволяют выявить самостоятельную и оригинальную систему богословских и историко-канонических взглядов их автора.
Вторую группу источников личного происхождения представляет эпистолярное наследие (частная и официальная переписка) патриарха Никона и связанных с ним крупных государственных и церковных деятелей - царя Алексея Михайловича, Константинопольского патриарха Паисия I, митрополита Афанасия, Саввы Дмитриева; разные типы посланий, включая грамоты патриарха Никона в созданные им монастыри: Иверский Валдайский, Крестный Кий-островский, Воскресенский Ново-Иерусалимский; "Духовное завещание Никона, Патриар-ха"[52]. Эпистолярное наследие позволяет анализировать взгляды патриарха Никона, в частности способы и средства их выражения, их истоки, взаимоотношения с современниками, а также инструменты стратегической коммуникации в рамках религиозного дискурса.
В третью группу источников личного происхождения вошли полемические произведения оппонентов патриарха Никона: история Московского собора 1666-1667 гг. о суде над Никоном митрополита Газского Паисия Лигарида, сборники догматико-полемических сочинений старообрядцев с целью обличения "реформы" патриарха Никона[31], эсхатологические сочинения, "прения о вере", сказа- ния, повести агиографического со-держания[12].
В четвертую группу источников личного происхождения вошли жизнеописания патриарха Ни-кона[22], свидетельства иностран-цев[44]. Труды И.К. Шушерина и Павла Алеппского являются свидетельствами участников и очевидцев событий, в отличие от работ Паисия Лигарида, который видел Никона лишь дважды - в июле 1663 г., описано в "Возражении или Разорении", и на суде в 1666 г. Из современников патриарха Никона составителем еще одного жизнеописания был Павел Алеппский, посетивший Россию в 1654-1656 гг., он преклонялся перед личностью патриарха Никона.
Второй вид источников представлен официальными документами и делопроизводственными материалами Российского государства, сюда относятся - деяния московских соборов; чины постановления на священство и на царство; "Судное дело" патриарха Никона[7].
Третий вид источников представляют документы Церкви: тексты Священного Писания, Ветхого и Нового Заветов и богословские труды отцов Церкви, которые сопоставляются нами с историкоканоническими и богословскими воззрениями патриарха Никона посредством лингвокогнитивного и лингво-культурологического анализа, который предусматривает изучение базовых концептов религиозного дискурса, их системных отношений и функций.
Богословие патриарха Никона пытаются осмыслить философы, филологи, искусствоведы, но среди историков целый корпус источников по идеологическим воззрениям патриарха Никона, введенный в научный оборот, остается невостребованным. Очевидна необходимость переоценки значения воззрений и личности патриарха Никона как церковного писателя и незаурядного мыслителя. Положения, которые принимались в науке априори должны быть либо доказаны, либо опровергнуты. Традиция изучения историко-канонических воззрений патриарха Никона в исторических исследованиях должна, наконец, быть заложена.
Научная новизна исследования.
-
1. представлена оригинальная авторская концепция исследования системы взглядов церковного деятеля через совмещение исторических методик (контент-анализ, ис-
торико-системный и историкосравнительный анализ) с методологическими приемами лингво-культурологии, лингвистической концептологии и семиотики (герменевтический и историко-семиотический методы, семантико-когнитивный и дискурсный анализ). Материал исследования сложился из текстовых репрезентаций 4112 единиц авторского текста и представляет собой результат выборки трех источников: наибольшей по объему была сплошная выборка библейских цитат (2653); во-вторых, цитат из произведений Святых отцев-каппадокийцев - 490 (из них 417 - сопоставлены с "Нравственными правилами" Василия Великого (80 правил, 233 главы); в-третьих - с выдержками из Кормчей 1653 г. (300);
-
2. произведена реконструкция картины мира патриарха Никона на основе исследования цитатного потока - методики фрактата - приспособления чужого текста к индивидуальному восприятию или же соотношение чужого текста с конкретной ситуацией, воспринимаемой как индивидуальное, особенное; а также методики центона -художественного эффекта в подобии или контрасте нового контекста и воспоминания о прежнем контексте каждого фрагмента; "цитатного монтажа";
-
3. проведено сопоставление богословских воззрений патриарха Никона с догматико-полемической идеологией раннего раскола (протопоп Аввакум, дьякон Федор и др.) и в контексте богословских поисков XVII в. посредством историко-сравнительного метода;
-
4. реконструированы историко-канонические воззрения патриарха Никона и в соотношении с каппадокийским богословием (Григорий Нисский, Василий Великий);
-
5. доказано, что взгляды патриарха Никона на национальноисторическое бытие, законодательно-правовую и догматико-каноническую базы государства и Церкви в регулировании институциональных отношений стали основой его практической деятельности;
-
6. проведено исследование историографического образа патриарха Никона в научной литературе. На материале более 1900 работ, которые сопоставлены с 283 историческими источниками, дореволюционная историография представлена 162 работами XVIII в.,
-
7. представлен развернутый комплексный анализ историографических штампов, прослежен генезис и развитие основных мифологем ("патриарх Никон - реформатор Церкви", "патриарх Никон -папоцезарист-теократ", "патриарх Никон - гонитель старообрядцев").
774 трудами XIX в. 764 трудами XX в.; зарубежная (на английском и немецком языке) составляет более 200 трудов);
Первый свод "хулительных" рассказов о патриархе Никоне был состав-лен в Пустозерске в 70-х гг. XVII в. сосланными туда писателями-старообрядцами, которые оформили их в отдельную книгу под общим заголовком "О волке и хищнике и богоотметнике Никоне достоверно свидетельство, иже бысть пастырь во овчей кожи, пре-дотеча Антихристов", где патриарх описывался как "еретик, богохульник" (1667 г.); "антихрист, сатана, рог антихриста" (1670 г.); "волхв, алхимик, нечестивец, прелюбоде-ец" (1676 г.); "властолюбец, убийца Павла Коломенского" (1678 г.). Идея "вины" патриарха Никона за раскол разработана Паисием Лига-ридом. Рассмотрение фигуры опального патриарха как "захватчика" царской власти, "русского папы", объяснение поступков патриарха Никона гордостью было введено в ранг историографических аксиом Паисием Лигаридом в его "Истории суда над патриархом Никоном".
Почитание патриарха Никона как местночтимого святого началось вскоре после его кончины. Традицию житийного почитания патриарха Никона как великого угодника Божия продолжил келейник патриарха Никона - Иван Кор-нильевич Шушерин, трудами которого потомкам сохранено "Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России". Составление старообрядцами развернутого подробного антижития патриарха Никона растянулось на довольно большой период и было завершено лишь к концу XIX в. Старообрядческое антижитие воспринял в наибольшей степени жанр исторического романа о патриархе Никоне. В исторических биографиях и исторических романах патриарх Никон показывается с политико-идеологической антипатией, что соответствовало актуальным тогда положениям европейского Просвещения и мифологическому образу развенчанного
"культурного антигероя". Образ патриарха Никона в художественной литературе появляется во времена Петра I в придворных кругах, когда возникают рассказы-анекдоты о патриархе Никоне[53]. Биографий патриарха Никона в художественной и популярной исторической литературе много больше, чем, например, протопопа Аввакума или Алексея Михайловича.
Со второй половины XVIII века до 60-х годов XIX века наличествуют два подхода. В первом историки рассматривали фигуру патриарха Никона сквозь призму угрозы для российской государ-ственности[25]. Цензурные сложности, неразработанность, да и недоступность архивной базы, определенная заданность рамок рассмотрения проблемы патриаршества в России привело к искусственному моделированию образа патриарха Никона как развенчанного антигероя: надменного, амбициозного, горделивого владыку; папоцезариста - теок-рата, стремившегося возвысится над царем; церковного деятеля, управляющего и осуществлявшего суд в церковных владениях по своему усмотрению и без вмешательства государственной власти.
Второе направление сложилось в рамках церковной историографии. Историками данного направления (митрополит Платон (Левшин), митрополит Евгений (Болховитинов), архимандрит Аполлос (Алексеев), архиепископ Филарет) в качестве основного источника использовалось "Известие о житии…" И.К. Шушерина, кроме того, они рассматривали архитектурное, летописное и идейное наследие Святейшего патриарха. Модификация государственной идеологии в сторону благочестия, преданности вере и престолу привела к переключению фигуры патриарха Никона со второй четверти XIX века из "культурного антигероя" в разряд "культурных героев" в рамках этого направления. Не случайно первые историографические апологеты - настоятели или историки монастырей, построенных патриархом Никоном (архимандрит Лаврентий (Далматов), архимандрит Досифей (Немчинов), митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), архиепископ Филарет (Гумилевский), Савва (Тихомиров), Варлаам (Денисов). Патриарх Никон стал рассматриваться как, прежде всего, православный пастырь, предстоятель, церковный, а не государственный деятель.
На втором этапе (вторая половина XIX - начало XX веков) началась активная публикация архивных документов и материалов, проливающих свет на историю старообрядческого движения, тогда как "Житие" патриарха Никона было издано и переиздано незначительными тиражами. В исторической науке искусственно навязывалась антиномичность и оппозиционность двух якобы равнозначных фигур (герой-антигерой) протопоп Аввакум-патриарх Никон.
С.М. Соловьев приписывал Никону "недуховные стремления" и безграничное властолюбие. Митрополит Макарий (Булгаков) в более мягкой форме указывал на его "необузданную гордость ". Н.Ф. Каптерев представлял Никона ограниченным традиционалистом "по умственному складу и всему строю своего мышления". А.В. Карташев писал о "научном невежестве Никона", хотя были уже давно изданы сочинения, опровергавшие эту точку зрения. Историко-каноническое направление историографии наиболее ярко представлено трудом В.Е. Вальденберга "Древнерусские учения о пределах царской власти"[4]. В.Е. Вальденберг выделяет три основополагающие идеи патриарха Никона: превосходство священства, свобода церкви, подчинение государства церкви - это были традиционные требования православных иерархов от митрополитов Киприана и Фотия до прп. Максима Грека. Но Вальденберг вслед за представителями "критической традиции" делает вывод о "папизме" идей Никона, "католическом понимании отношений между церковью и государством", что выражалось в изложении теории двух мечей Бернарда Клервосского и папы Иннокентия III. Теория Никона, по мнению исследователя, является плодом личной мысли и личного настроения патриарха, Никон является "единственным теоретиком этого политического направления".
Общими стереотипами критической традиции историографии второго этапа можно назвать:
-
1. Опора на официальные источники (инспирированное "Дело" патриарха Никона) и сочинение Паисия Лигарида "История о соборе 1666-1667 гг. против Никона и староверов", игнорирование данных, представленных в "Известии о житии…" И.К. Шушерина, пол-
- ное игнорирование творческого наследия (в особенности содержания "Возражения или Разорения") и собственно деятельности патриарха Никона;
-
2. Папизм патриарха Никона основан на его буквализме, могущество Никона - это могущество патриарха, а не церкви, возникшее из-за каприза молодого царя;
-
3. Главная задача патриарха Никона - церковные исправления;
-
4. Концепция "священство выше царства" основана на болезненно уязвленном самолюбии и честолюбии, властолюбии патриарха Никона, не обладавшего ни организаторскими, ни теоретическими, ни моральными данными;
-
5. Влияние бояр на Алексея Михайловича. Конфликт царя и патриарха понимается как столкновение двух характеров, лишенный объективного содержания.
Другим научным направлением исследуемого периода был православный исторический реализм, общими стереотипами этого направления можно назвать:
-
1. Патриарх Никон - мужественный исповедник божественных заповедей, великий пастырь, строгий ревнитель правды;
-
2. Разочарование "ревнителей" в патриархе произошло не в силу его реформ, которых не было - была книжно-обрядовая справа, а из-за того, что он не стал подчиняться их мнению подобно патриарху Иосифу;
-
3. Раскол развился после низложения патриарха Никона;
-
4. Главные виновники раскола - московское боярство, Паисий Лигарид, от интриги которого пострадал патриарх Никон, а также царская власть в лице Алексея Михайловича.
Крупным событием в публикации источников по "делу" патриарха Никона стал труд известного русского историка, архивиста, ис-точниковеда Н.А. Гиббенета[8]. Его сочинение представляет собой, с одной стороны, научное исследование, основанное на анализе всей совокупности архивных документов, и, с другой, публикацию многих важнейших источников о жизни и деятельности патриарха в обширных приложениях к исследованию. Научную, логически выверенную концепцию удалось создать историкам английской церковноисторической школы - В. Палме-ру[68] и А. Стенли[69].
Большой вклад в почитание памяти Святейшего патриарха Никона внес настоятель Воскресенского монастыря в 1869 - 1877 гг. архимандрит Леонид (Кавелин). В 1874 г. им был устроен в Воскресенском монастыре музей патриарха Никона. В 1891 г. была издана книга "Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII века) обще и местно чтимых. Справочная книга по русской агиографии". В этой книге в число 795 святых включен и "Никон, Патриарх Московский и всея России"[26]. С.А. Белокуров существенно уточнил биографические сведения о патриархе Никоне и ход справы, а также о целительской и чудотворной деятельности патриарха Никона в Фе-рапонтовом монастыре (в 1674 г. патриарх Никон исцелил в Фера-понтовом монастыре почти 50 человек, в 1675 г - почти 40 человек, в 1676 - около 30 человек) [26].
Важнейший труд, созданный в эмиграции - "Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи" М.В. Зызыкина. По мнению М.В. Зызыкина, Никон был поборником идеи симфонии государственной и церковной власти, которую он заимствовал из древнего византийского права. Идея оцер-ковления жизни должна была освятить, прежде всего, институт царской власти как основу самой жизни русского государства. Патриарх Никон дал оригинальную теорию православного Царя, подчиняющегося в своей личной жизни православному учению и правилам церкви. Никон напомнил святоотеческую идею различия светской и духовной властей и ушел с кафедры, когда Царь отошел от обещанного пути. По мнению протоирея Г.В. Флоровско-го[17], неудачи в русском духовном развитии XVII в. были вызваны отступлением от святоотеческого предания, соответственно, раскол был не причиной распада церковного и государственного всеединства, а только его следствием. Утверждая, что священство выше царства, патриарх не выходил за рамки святоотеческого предания, из которого черпал свои идеи. Однако против него выступили и царь, и греки, и старообрядцы.
А.В. Карташев в рамках сбалансированного критицизма полагал основой идеологии патриарха Никона "римский клерикализм в его крайней форме". Исследователь выделил следующие черты идеологии патриарха Никона:
-
1. Латино-теократический дух "Разорения": правило VI Вселенского собора о соотношении двух властей - в "латинском духе"; теория двух мечей была воспринята "Никоном за чистую монету восточно-канонического права";
-
2. Патриарх Никон смешивал хозяйственный исторический быт русской церкви с существом канонов - это теоретическая ошибка патриарха Никона;
-
3. Попытки патриарха Никона вернуть теократический идеал безнадежны и бессильны, и тождественны, по сути, идеалам ревнителей, не принявших нового обряда. Отражением этого антисекуляр-ного чутья стала критика Соборного уложения в "Возражении или Разорении";
-
4. Окончательные выводы как Никона, так и "спровоцированных" им старообрядцев сводились к апокалиптическому видению будущего церкви и государства. Но идеология Никона была облечена в "римский клерикализм в его крайней форме", что и привело к низложению опасного в государственном смысле иерарха.
Как правило, русские эмигранты и зарубежные исследователи склонялись к выводу, что обрядовое реформирование имело для патриарха Никона второстепенное значение по отношению к идее первенства священства над царством, о чем свидетельствовало сохранение курса на исправление обряда после низложения патриарха Никона, т.е. зависимость между идеей реформы церкви и личностью патриарха отсутствовала. Напротив, никоновский проект создания теократического государства потерпел крах. Сам же низложенный патриарх, совершенно утратив интерес к проблемам книжной справы, по-прежнему горячо развивал свои идеи об отношении между "духовным и светским мечами" власти[70].
С 1970-х гг. в ряде работ зарубежных и эмигрантских историков прослеживается попытка поиска компромисса между обеими сторонами русского раскола. За каждый из них признавалась определенная историческая правота в интерпретации канонической традиции. Основным выразителем этого подхода выступил С.А. Зеньковс-кий[15], который представил наиболее развернутую, в сравнении с другими трудами по данной проблематике, картину старообрядчес- кого эсхатологического протеста. В заключении автор пишет о "нелепых затейках неистового Никона" и его "безрассудности", приведшим к таким плачевным последствиям[49].
К изучению литературного и полемического наследия Никона обратился в последние годы жизни Г.В. Вернадский, опубликовавший на русском языке "Возражения или Разорения" Никона на ответ Паисия Лигарида боярину Стрешневу с филологическими и историческими комментариями[71].
В советский период личность и воззрения патриарха Никона (причем в сильно упрощенном виде) упоминались только в связи с церковной реформой, которую рассматривали как продукт централизации, проводившейся господствующим классом и тесно связанной с внешнеполитическим курсом правительства, нацеленным на усиление влияния на Украине. В большинстве случаев упор делался на экономические отношения и конфликт между светским и церковным землевладением. В обобщающих трудах по отечественной истории имя патриарха Никона присутствовало в контексте раскола, понимаемого как народное, преимущественно крестьянское, движение.
В период 1960 - 1980-х гг. работы историков по проблеме множились, но в них тиражировались традиционные подходы, причем некоторые из выводов были лишь повторением выкладок дореволюционных авторов в лучшем случае со ссылкой на них (в подавляющем большинстве случаев на выводах А.П. Щапова и Н.Ф. Каптерева). Узкий спектр оценок патриарха Никона варьировался лишь в нюансах. Отдельные стороны интересующей нас проблемы в историографии советского периода находили свое отражение в книгах искусствоведов, литературоведов и куль-турологов[18].
В церковной историографии патриарху Никону до середины 1970-х гг. была посвящены работа митрополита Мануила (Лемешев-ского)[32] и Льва (Лебедева), основанные на продолжении дореволюционной церковно-исторической методологии.
Авторы советского периода внесли существенный вклад в обогащение источниковой базы изучения старообрядчества, но идейным, духовным аспектам, теологическим спорам и особенностям картины мира, как у старообрядцев, так и у патриарха Никона внимания уделялось много меньше. История культуры, в том числе и духовной культуры, не относилась к числу тем первостепенного порядка в системе официальной исторической науки. Гипертрофированный классовый подход, опора на марксистскую идеологию как единственно верную, включение политической лексики в исторический нарратив приводили к своеобразной квазиполитизации религиозно-философской мысли второй половины XVII столетья.
В начале 90-х гг. XX в. в работе профессиональных историков открылись реальные возможности свободного выбора теории, исследовательских подходов и методических процедур, языка описания. Активно стали использоваться наработки современной зарубежной историографии: историческая антропология, история ментальностей, история повседневности, гендерные исследования и др. Со второй половины 1990-х появляется большое число публикаций общего свойства о жизни и деятельности патриарха Никона[41].
Д.Ф. Полознев[42], изучавший противоречия внутри церковной иерархии[34] пришел к выводу, что в основе взглядов и поступков Никона лежала цельная система представлений, опиравшаяся на православную церковную традицию. Это выразилось в актуализации культов русских святых, которые выступали с независимой позицией по отношению к светской власти, в возрождении византийских традиций придворного религиозного быта, особенно в церемониях патриарших выходов, в допечатке "Кормчей", куда вошли документы, в которых акцентировалось внимание на особой миссии русского православия и главы Русской церкви.
По мнению Б.А. Успенско-го[61], конфликт патриарха Никона и царя Алексея Михайловича основан на противоположных интерпретациях одного и того же материала. Однако в России патриарх в силу своего особого поставления получал не только административные, но и харизматические преимущества по отношению к прочим епископам - соответственно, патриарх в первую очередь и правомочен восприниматься как образ Божий.
В 1992-1999 гг. С.М. Дорошенко была создана первая в отече- ственной историографии летопись жизни и деятельности патриарха Никона[9]. Благодаря "Летописи" четко выстраивается событийная канва жизни Никона, выясняется хронология его идейного наследия, там нашли отражение факты отношений Никона с современниками. С.В. Лобачев[28] настаивал на том, что раскол и, как следствие массовые гонения, начались уже после удаления Никона с первосвятительской кафедры, поэтому вина за раскол должна быть возложена на царя, а не патриарха. По мнению С.В. Лобачева, во-первых, печатные произведения первой половины XVII в. сформировали мировоззрение нового поколения русских книжников - ориентацию на старину, убежденность во вселенской миссии русского царя; во-вторых, главным источником знания для патриарха Никона была Кормчая книга. Эти правила он воспринимал как руководство к действию, и даже его уход был подражанием евангельскому сюжету; в-третьих, укрепив свои позиции в обществе и на международной арене, царь больше не нуждался в опоре на церковь, он стал самодостаточным.
В последнее время интерес к личности и деятельности патриарха Никона и его наследию возвращен в научно-исследовательское поле. За последние несколько лет изданы четыре редакции жизнеописания патриарха Никона и свидетельства современников. Обращение к образу патриарха Никона было связано с подготовкой к празднованию юбилейных памятных дат в отечественной истории. Юбилейные торжества пришлись на 2002 г. (350 лет со дня интронизации), 2005 (400 лет со дня рождения) и 2006 гг. (325 лет со дня смерти) выдающегося церковного и государственного деятеля - Святейшего патриарха Никона (16051681)[65]. Важным фактом культурной жизни стали юбилейные выставки, устроенные в музее "Новый Иерусалим" (1998, 31 октября 1999 г., 2001, 2002, 21- 22 июня 2005 г., 26 июня 2006 г., 7 июня 2007 г.); Государственном историческом музее - выставка "Патриарх Никон и его время" (27 июня - 18 ноября 2002 г., научная конференция - 9-10 декабря 2002 г.)[38]; В преддверии 400-летнего юбилея Святейшего патриарха Никона в Москве в Союзе писателей России под председательством В.Н. Ганичева прошел "круглый стол" по теме "Преодоление средостения: народ, власть, церковь. В ознаменование 400-летия со дня рождения Святейшего патриарха Никона" (июнь 2005), в Московском Кремле - выставка "Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Премудрая двоица" (29 сентября 2005 г. по 22 января 2006 г.); Кирилло-Белозерском монастыре -выставка "Святейший патриарх Никон" (2005)[51], Печерском Вознесенском монастыре Нижнего Новгорода - выставка "Рожденный на земле Нижегородской" (с 31 мая 2005 г.), которые представили личные вещи, автографы и портреты патриарха на фоне эпохи, а также книжная выставка в Государственной Публичной Исторической библиотеке "Патриарх Никон - государственный и общественный деятель (1605-1681)" (2 июня по 2 июля 2005 г.), на которой были представлены издания, вышедшие до 1918 г.
Наиболее значительный вклад в изучение наследия патриарха Никона внес В.В. Шмидт[66]. Анализируя содержание таких источников как "Возражение или Разорение", "Духовные наставления" он доказал, что богословие патриарха Никона было возвращением к святоотеческой традиции. В работе "Свод "Судного дела Никона, Патриарха Московского и Всея Руси", и других архивных материалов как проблема интерпретации" приводится опись судного дела и других архивных материалов, хранящихся в РГАДА. В.В. Шмидт убедительно доказывает, что патриарх Никон старался преобразить государственную жизнь, воскресить и реставрировать традиционный социальный строй, базирующийся на догматических принципах православия[67]. По его мнению, богословские и религиозные взгляды и убеждения патриарха Никона полностью согласованы с традиционным святоотеческим православным вероучением, притом в его каппадокийской традиции, и представляют довольно разработанную систему, которую автор определяет как "иерократия".
В 2004 г. в издательстве Московского университета под общей редакцией В.В. Шмидта вышли труды патриарха Никона. В научный оборот был введен корпус архивных материалов: "Возражение, или Разорение смиреннаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газско- му митрополиту Паисее Ликариди-усу, и на ответы Паисеовы", "Духовные наставления христианину", "Духовное завещание Никона, Патриарха", гомилетическое и эпистолярное наследие, стихотворное наследие никоновской школы песенной поэзии с самым полным на сегодня корпусом Новоиерусалимских псалмов и др.[59]. Докторская диссертация В.В. Шмидта представляет собой первое в гуманитарной науке (философии, религиоведении, культурологии) систематизтрованное междисциплинарное исследование образа патриарха Никона в русской социокультурной и социально-политической картины мира, а также наследия патриарха.
Ряд важных работ вышли из-под пера исследовательницы эпистолярного наследия патриарха Никона С.К. Севастьяновой[54]. В статьях, посвященных переписке патриарха Никона, она указывает на особенности стиля патриарха Никона как писателя: в обращении с цитатами он ведет себя как типичный древнерусский книжник. Практически не перерабатывая текст источника, он, как правило, дословно цитирует его; круг источников Никона не слишком широк - это в основном цитаты из Библии, тексты которой Никон, будучи чрезвычайно начитанным и образованным человеком и значительную часть времени проводя за богослужением, знал наизусть; патриарх собственным примером убеждает адресата следовать в жизни евангельским заповедям и уповать на Бога.
Таким образом, в рамках гуманитарных наук (философии, филологии, культурологии, искусствознания) выработана адекватная методологическая база для изучения государственно-конфессиональных отношений второй половины XVII века, а в частности Историко-канонических и богословских воззрений патриарха Никона.
"Возражение или Разорение…" патриарха Никона является наиболее значительным концептуальным произведением на тему об отношении двух властей. "Возражение или разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина С. Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы", написанное патриархом предположительно в 1662 г. Никон ответил-"возразил" на
27 из 30 ответов Паисия Лигарида и Симеона Стрешнева.
В историографии существуют различные мнения о времени составления патриархом Никоном "Возражения или Разорения". Текст "Возражения" издан дважды на славянском языке: первый раз не полностью в "Записках Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества" под редакцией В. Ла-манского и Г.В. Вернадским. Перевод памятника на английский язык и его издание осуществлены в 1871 г. У. Пальмером. В настоящее время В.В. Шмидтом проведено текстологическое исследование и осуществлена публикация "Возражения"[5].
Отметим, что этот источник в исторической науке использовался крайне скудно. С.М. Соловьев цитирует его в XI томе "Истории России…"[55], митрополит Макарий (Булгаков) нелицеприятно отзывался по поводу "Возражения или Разорения": по его мнению, патриарх Никон подкреплял не только главные, но и второстепенные свои мысли произвольным набором библейских текстов и церковных правил, отчего сами мысли Никона расплывались и терялись, источники он просто переписал в свою книгу[56].
Переосмысление и активное использование "Возражения или Разорения…" в работах Б.А. Ус-пенского[61] в трактовке обряда шествия на осляти в Вербное воскресенье в Москве при патриархе Никоне и соотнесении патриарха московского и папы римского. Д.Ф. Полознев рассматривает 8-й и 11й вопрос-ответы "Возражения"[42] и приходит к выводам о довольно цельной системе представлений патриарха Никона, опиравшейся на православную церковную традицию и ориентированного на сложившуюся в связи с "делом Никона" ситуацию. В другой работе он отмечает значение "Возражения" в исследовании проблем церковного суда в России XVII в.[36]. С.В. Лобачев называет "Возражение или Разорение" своеобразным духовным завещанием, в котором патриарх Никон высказался по всем волнующим его вопросам. В нем патриарх ни разу не обмолвился о церковной реформе. Очевидно, главным делом Никона в его собственном понимании была не реформа, а возвышение роли священства и вселенского право- славия, что нашло отражение в новом внешнеполитическом курсе Русского государства.
Таким образом, несмотря на то, что текст "Возражения или Разорения" патриарха Никона уже более 150 лет введен в научный оборот, использовался он исследователями мало и очень специфично: выявлялся комплекс "теократических" воззрений патриарха, а богословская составляющая и принципы написания отходили на второй план. Исключением можно считать работы М.В. Зызыкина. Им рассматривались вопросы соотношения священства и царства в "Возражении", а также текстологические комментарии Г.В. Вернадского и В.Б. Туминой, где были выявлены источники (не все) "Возражения". В диссертации В.В. Шмидта воззрения патриарха Никона рассматривались через призму состояния православной богословской мысли X-XVII вв. Не были раскрыть вопросы принципов составления "Возражения", методов цитирования священного Писания и Священного предания, детально не прорабатывались отдельные отрасли богословия на предмет соответствия вклада патриарха Никона в развитие религиозной философии в контексте полемики третей четверти XVII в.
Мы провели интроспективный и дефиниционный анализ для определения принципов экзегетики и герменевтической гомилетики в "Возражении или Разорении" патриарха Никона. В "Возражении" можно выделить несколько пластов традиционных текстов: Св. Писание и Св. Предание, постановления Вселенских соборов, Поместных соборов, Русских церковных соборов, Градские законы греческих царей, правила святых отец, Кормчую книгу, правила свт. Василия Великого, заповеди благочестивого царя Константина, заповеди благочестивого царя Мануила греческого, правила и апостольские заповеди Кирилла, архиепископа Александрийского, устав св. Владимира, Соборное Уложение.
Библейская цитация у Патриарха Никона прослеживается как в маркированном, так и не в маркированном виде. Маркированные цитаты в данном случае - это точное указание на библейскую книгу в пометах на полях. Чаще всего маркированные цитаты занимают сильные позиции начала или конца текста. Немаркированные цитаты основаны либо на пересказе библейского текста, либо на указании персонажа из библейской истории.
Выделены использование Святейшим Патриархом таких приемов как: сугубая цитата, сюжетообразующий пересказ - немаркированная цитата. Принципы конта-минирования, реферирования, сгущения примеров из Священного Писания, цитатная избыточность и другие традиционные способы дидактического и эмоционального воздействия на читателя, использованные Никоном при работе с источниками, свидетельствует об особом отношении автора к библейскому тексту: с ним необходимо работать, чтобы обнажить и выразить его глубочайшее духовное содержание с максимальной полнотой и доходчивостью для наиболее адекватного восприятия текста читателем.
Основной структурной особенностью выступает принадлежность цитируемого текста той или иной библейской книге, но встречаются и переходные случаи - например, цитируется отрывок из Евангелий, Деяний и Посланий со ссылками на параллельные места из Ветхого завета (см., например: Возражение 26, Л. 618-699). Соотношение Ветхозаветных и Новозаветных цитат соответственно 927 (35%) и 1736 (65%).
Следующая особенность - мотивированность цитаты - ее использование в гомилетических текстах-образцах. Объем, как правило, ограничивается в пределах одного библейского стиха, иногда двух-трех стихов, в остальных случаях перед нами контаминация отрывков из разных глав одной книги или разных книг (см.: Возражение 9. Л. 61 об., 62 об.; Возражение 16. Л. 142; Возражение 20. Л. 21, 232; Возражение 22. Л. 264, 270; Возражение 23. Л. 274, 283об., 290об.; Возражение 24. Л. 297 б.; Возражение 25. Л. 427об., 430об.; Возражение 26. Л. 547 [на правом поле листа помета: Лук. 13 - ср. Гал. 1, 8]. Л. 720 [на правом поле листа помета: "1 Петр" - ср. 2 Тим. 2, 18], Л. 721 об. [на правом поле листа помета: Колас. 2 - ср. 2 Кор. 11, 3]). Например, в некоторых отрывках патриарх Никон ссылается на Евангелие от Луки, но регулярно контаминирует текст с текстами других евангелистов, текст подвергается не только сокращению, но и одновременно расширению за счет комментирующих вставок, то есть, получается контаминация из всех упоми- навших эпизод евангелистов.
Евангельский фрагмент выступает, таким образом, в качестве идеологической, композиционной, нарративной и стилистической основы текста. По нашим подсчетам в "Возражении или Разорении…" 417 заимствований из нравственных правил свт. Василия Великого, архиепископа Кесарийского (330-379). У патриарха Никона наиболее часто встречается немаркированное использование 70 правила (48 упоминаний - 12%), 69 правила (33 упоминания - 8%), 72 (18 - 4%) и 80 правила (16- 4%). Из 80 правил использованы 69. Патриарх Никон использует 70-е правило в 1 (4 упоминания), 5 (4), 6 (1), 9 (4), 10 (1), 11 (1), 14 (3), 17 (6), 18 (1), 20 (2), 22 (1), 24 (3), 26 (17) возражениях, причем именно правило 70. В некоторых случаях тематическая группа цитат следует без наименования правила и отсутствует первая цитата-выписка из Нового Завета, не называя того или иного правила Василия Великого, патриарх Никон пользовался ими (судя по подстрочным примечаниям), цитируя из разных источников, прежде всего, из "Кормчей" (л. 173об. "Возражения" - л. 61об.-62 "Нравственных правил").
Проанализировав "Нравственные правила" Василия Великого и 27 вопрос-ответов "Возражения или Разорения" мы разместили результаты сличения текстов в сравнительных таблицах, состоящих из четырех колонок:
-
1. источник - выделены книги, главы, стихи из Священного Писания (Ветхий и Новый Завет), ссылки на текст Ветхого и Нового Завета у патриарха Никона даны по за-чалам, поэтому глава и стих определялись нами во всей случаях дополнительно;
-
2. "Правила" Василия Великого - на основе опубликованной версии мы делали сличение с текстами Нового завета;
-
3. лист - номер листа в рукописи "Возражения…";
-
4. тип цитаты - маркированная (самим патриархом Никоном в пометах), немаркированная - парафраз библейского текста, выявленный нами.
Нами исследованы данные сплошной выборки библейских цитат в "Возражении…" патриарха Никона, общее количество текстовых репрезентаций составило 2653. У патриарха Никона цитаты обозначаются по зачалам, следова- тельно необходимо было установить границы цитируемого текста внутри зачала (глава и стих), поэтому каждая цитата сверялась с первоисточником, в качестве которых были использованы Евангелие и Апостол. В тексте нами выявлено 545 цитат без указания текста источника, посредством семантико-когнитивного анализа источник восстановлен. Выявлено 16 случаев контаминаций. Кроме этого, произведено сличение текста "Возражения…" с "Нравственными правилами" Василия Великого (80 правил, 233 главы).
Древняя и средневековая русская православная философия преимущественно развивала учение о человеке, созданное "золотым веком" святоотеческой литературы -творениями Василия Великого, Григория Назианзина, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, а также трудами более поздних отцов Церкви - Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина и др. По богословским воззрениям, на наш взгляд, патриарх Никон наиболее близок теологии Св. Григория Нисского, на которого ссылается в "Возражении" более 50 раз.
Наиболее важным принципом христианской антропологии для патриарха Никона является исповедание Христа в любви, так как Бог являет Себя человеку в любви, жертвуя Собой ради спасения через любовь. Патриарх Никон дает подробное толкование символики священнических одежд (л. 282-286), такое же толкование дает и атрибутам царской и державной власти (л. 394 - 396 об.), что еще раз подтверждает его большое внимание к сути символа. Основные мысли св. Григория Нисского и Святейшего Патриарха Никона по вопросу воплощения Образа Божия в человеке и пастыре, на наш взгляд, таковы:
-
1. небесное путешествие души становится внутренним;
-
2. откровение говорит нам о Боге, чтобы затем найти в человеке то, что соответствует в нем образу Божию, а небрежение замут-няет в человеке Образ Божий;
-
3. образ Божий в человеке и познаваемый и непознаваемый одновременно;
-
4. человек - венец творения, микрокосм, заключающий в себе все сущее, изначально человек был создан для участия в Боге;
-
5. мир оказался отрезанным от
Бога через человека, связь с Богом - в свободе и самоопределении.
В.В. Лепахин в статье об ико-ническом зодчестве патриарха Ни-кона[24] обосновывает семиотическое значение монастыря Нового Иерусалима, предлагая термин "иконотопос" - святое, избранное Богом или человеком место, которое осознает себя избранным, имеет небесный Первообраз, описанный в Священном Писании или церковной литературе, которому соответствует земной прото-тип[20]. Иконотопос организует пространство вокруг себя по принципу священной топографической иконичности. В образ Иверского Афонского монастыря устраивался Иверский Валдайский монастырь, в образ горнего Иерусалима из Откровения Иоанна Богослова - престолом у моря и поющими Богу праведниками, стоящими на море, был устроен Крестный Кий-островский монастырь. И, наконец, как иеротопос Нового Иерусалима (Града Небесного) - Воскресенский монастырь, задуманный в образ храма Гроба Господня в Иерусалиме (Л. 111 об.-112 об.) и Святой Земли. То есть метафизика образа, выражаемая в догмате иконопочита-ния, применялась патриархом Никоном к монастырскому строительству (кроме того, известно, что и сам патриарх Никон писал иконы, следовательно, владел этим языком в полной мере), это была разработанная система иеротопии - сакрализации пространства.
Классическая формула взаимоотношений между церковной и светской властями заключается в "Эпанагоге" - кратком сборнике правовых норм, составленном в Византии в конце IX в. По мнению патриарха Никона, основой права должны быть нормы, взятые "исправил святых апостол и святых отец, и из градских законов греческих царей". В 6-й новелле Юстиниана говорится, что царство и священство - это два Божественных дара, данных человечеству свыше. Происходя из одного Божественного начала, они дополняют друг друга: священство охватывает сферу религиозной, а царство - мирской жизни. Забота о духовном обеспечивает светской власти благополучие государства, а молитвами духовенства укрепляется могущество царства. От союза священства и царства зависит сохранение и соблюдение переданных через апостолов и святых отцов свя-щенных правил. Патриарх есть живой и одушевленной образ Христов, словом и делом свидетельствующий истину. В задачу царя входит доброе управление, а патриарха - охранение верных в чистоте и благочестии. Цель царя - благодетельствовать народу, а патриарха - спасать души пасомых. Царь - благочестив и усерден в Божественном, патриарх - обличает неправду, защищает догматы даже перед лицом царя. Царь защищает истины, провозглашенные Св. Писанием, патриарх толкует правила святых отцов и древних патриархов. 3-й титул Эпанагоги провозглашает согласие священства и царства.
Основной тенденцией развития богословской мысли в России второй половины XVII в. были це-зареполистское рассмотрение "симфонии властей" как "симбиоза" государства и Церкви. В симфонии признавались два начала, светское и церковное. Церковь не от земли, но от Бога, государство же - это устроение земной жизни человека и создается творческими силами человека. Высшей целью государства являлось сохранение православной веры: "в симфонии государство признает закон Церкви основным законом жизни, высшей ценностью, и стремится служить ему, провести его в жизнь"[23]. Поэтому государство считало себя вправе вмешиваться в церковную жизнь - от избрания Патриарха, осуществлявшегося по инициативе царя, до царских указов, регламентирующих соблюдение православных постов. В XVII веке "трудно было указать, где оканчивалась церковь и начиналось государство"[62], государство в изучаемый период прямо ставило религиозные заповеди и нормы христианской жизни в основу своей политики. Царь утверждал назначение патриарха и должен был сыграть главную роль в избрании нового "пастыря и учителя", принимал участие во внутрицерковной жизни, все это вполне соответствовало догматико-полемической традиции раннего раскола, например Ивана Неронова. Неразрывно было связан с концепцией "симфонии властей" дальнейшее развитие доктрины о Москве - Третьем Риме, по которой миссия хранения чистоты православной веры возлагалась на московского самодержца -последнего православного царя.
Патриарх Никон по-иному видел реализацию идеи симфонии церковного сознания, с видоизменениями, приспособленными к новым историческим условиям, и проводил ее с учетом верховного руководящего принципа, определяющего задание церкви по христианизации всех социальных отношений: все сферы жизни должны были организоваться в одну гармоническую систему по указанию христианских идей под сверхприродным руководством Церкви. Поэтому он реанимировал исконный византийский смысл "симфонии властей", не отождествляя ее ни с цезарепапизмом, ни с папоцезариз-мом. Симфония требует подчинения идей государственных идеям церковным, но никак не их слияния и тем более отождествления, способных привести к замещению, слиянию или порабощению не только этих идей, но и самих институциональных организаций. Церковь и государство выступают как структуры параллельные.
Вожди старообрядчества, искренне считая себя "государевыми богомольцами" воспринимали функцию пророка. Для Ивана Неронова и его друзей церковный Собор был выше голоса епископата, или даже любого собрания, находящегося под контролем "сбившихся с пути" епископов.
Для патриарха Никона церковная иерархия есть отражение Божественной, он не отождествлял православие с обрядностью и церковное общество с политическим. Отождествление же приводило к квази-политизации религиозного дискурса староверов, до сих пор этот вопрос остается дискуссион-ным[57]. Не придавая церковному обряду такой неизменности как догмату, патриарх Никон почитал его подлежащим изменению и исправлению со стороны Поместного собора, особенно когда получил одобрения Восточных Патриархов. Борьба Святейшего патриарха Никона была направлена к тому, чтобы государство возглавлялось истинною царскою самодержавною властью, при которой только и возможно осуществление симфонии властей и, следовательно, процветание Церкви и Государства силою православной веры.
Находясь на различных идеологических полюсах, Иван Неронов и Святейший патриарх Никон схожи в воззрениях на взаимоотношения царя и Церкви как сына и матери. Пределы иерархического послушания русского православ- ного человека были обозначены прп. Иосифом Волоцким: "царь, заподозренный в отходе от православной веры, не слуга Божий, но диавол, и не царь, а мучитель и... ты такового царя не послушавши". Отхождение царя Алексея Михайловича от этого канона - несомненный показатель апостасии, наступления последнего времени, времени Антихриста и для староверов, и для патриарха Никон.
По мнению патриарха Никона, именно духовный наставник, проповедник, пастырь несет ответственность за поступки каждого человека и ответственен перед Богом за неправедность жизни пасомых. Но только Богу, а не человеку, принадлежит право судить людей. Особое положение занимает в церковной иерархии патриарх: "Патриарх есть образ жив Христов и одушевлен делесы и словесы в себе живописуя истину". Патриарх Никон отстаивает церковные права и обосновывает их, посвящая экклезиологическим и церковногосударственным вопросам большую часть своего "Возражения..." (26-й вопрос). В 24-м вопросе: власть духовная и светская, по его мнению, соотносятся через Христа следующим образом: "Священник же аще кого свяжет на земли, ни Сам Бог разрешит того, якоже свидетелствует, будет, рече, связан и на Небеси... Зриши ли, яко не-беснаго жителства достойнаго свяжет священник на земли, Бог того на Небеси не разрешит". Епископы должны не только во всем слушаться патриарха, но даже не могут самопроизвольно возбранять ему те или другие действия, но даже и советовать. Право суда над патриархом может быть дано только другим патриархам. Священство "преболе царства есть, так как происходит непосредственно от Бога и иерарх поставляется на служение через благодать Святого Духа непосредственно, царь поставляется при посредстве елея через священника. Царь (и светская власть в целом) не должен вмешиваться в церковные дела. Патриарх имеет право покровительствовать бедным и неимущим, бороться против злоупотреблений властью, включая самого царя и царь не должен на это гневаться, а смотреть на это как на прямую обязанность патриарха, его долг. Всякого рода попытки нарушить эти отношения есть "презорство", "на-сильство", "лихоимство", "любо- действо", гонение против Церкви. Захват государством церковной собственности влечет за собой страшные наказания от Бога, как это было у библейских царей.
Из проведенного нами анализа "Возражения или Разорения…" действительно следует, что принципы кафолического экклезиоло-гизма (пространственной, временной и качественной универсальности природы и свойств христианской церкви) были общей основой и богословия, и философских, социально-политических воззрений, и идеологии как патриарха Никона, так и лидеров старообрядческого движения. Насколько показывает исследование биографии и наследия Святейшего патриарха, вся его жизнь, труды, воззрения были исповеданием каппадокийской системы ортодоксального богословия в исихастском варианте (концепция соборности, которую развивали каппадокийцы. Они рассматривали не индивидуальное "Я", открытое бесконечности всеобщего - Богу, а соборное "Я".
Главными источниками по нравственному богословию патриарха Никона выступают его произведения - "Духовное завещания Никона, Патриарха Московско-го"[11] (сентябрь 1660 - ноябрь 1666 гг.) и "Нравственные наставления царю/христианину"[10] (1660 - декабрь 1662 гг.).
С.К. Севастьянова определяет жанр "Духовного завещания" как произведение завещательно-уставного характера с признаками духовной грамоты, схожий с текстом Устава Иосифа Волоцкого. По форме - это завещание, по содержанию - устав, причем особенностью являются явные византийские традиции этого жанра. Противопоставляются "нерадивость и леность" (л. 486, 487, 487об., 488, 489об., 491) и "небрежение" (л. 486об., 488об., 489об., 491, 493об.) "благочинию" (л. 486об., 489, 489об., 490об.) и "усердию" (л. 487, 487об., 488об.), приводя в пример Христа во храме (Мф. 24, 15; Мк. 13, 14; Лк. 21, 20. "Нравственные наставления царю/христианину" начинаются выдержками из "Кормчей" 1653 г. - л. 298а, 309, 310, 327об., 330об., 331 - и представляет собой тетради с выписками из Нового Завета. Патриарх Никон наставляет царя к покаянию, очищению души.
К тому же призывал в своих посланиях царя и противник Никона - протопоп Аввакум[12], цель которого - защитить христианского царя от сатанинского воинства. В отличие от Аввакума, патриарх Никон применял евангельское учение об ограничении царской власти законом Божиим, отстаивая право Церкви на роль внутренней оппозиции в случае деспотического правления, долг и право обличать царя, как и всех делающих неправду. Патриарх Никон попытался освободить духовную власть от подчинения ее власти светской, добиваясь независимости власти Патриарха от власти царя во всех церковных делах, а в делах государственно-общественных считая правом Патриарха осуществлять духовный контроль, чтобы они совершались согласно Слову Божию, правилам святых апостолов и святых отцов, вселенских и поместных соборов и законам древних благочестивых царей. Патриарх Никон обращает внимание читателя на главное дело каждого христианина - соблюдение заповедей Божиих и пребывание в воле Его. Он указывает на то, что обличение всех делающих неправду, в том числе и царя, его долг как пастыря, что "подобает обличение и запрещение приимати, яко лечбу чистительную страстем, и здравие со-девающу" (л. 390). Патриарх Никон призывает в посредники и свидетели на суд царев Христа, надеясь, что благодать Слова умягчит сердце царево. Он и заботится о спасении души своего царственного друга и борется за то, чтобы во главе Российской державы стоял царь, способный благодатно исполнять свое служение в послушании Церкви. Патриарх Никон подчеркивает, что грех в жизни личной и общественной есть причина несчастий, следующих за уклонение от воли Божией, и что единственным средством отсечения поврежденной грехом человеческой воли является выправление всей жизни согласно церковному канону и стяжание благодати Святаго Духа. И в этом Патриарх должен быть учителем царя, как вторая половина "Богомудрой двоицы", как духовное восполнение царя.
Патриарх Никон не просто использует в качестве источника "Нравственные правила" Василия Великого, но изменяет и дополняет их цитатами из Священного Писания, вставками из Кормчей. Вполне очевидно, что Алексей Михайлович знал текст святителя Василия Великого и источник ему был очевиден, но тем самым патриарх Никон выводил свое произведение на паратекстуальный уровень межтекстовых связей тем, что в материал вторичного источника вводил элементы первичного, также известного адресату! Что касается цитирования Евангелия от Матфея 5-7 глав, из 102-х цитат, маркированных - 59 (52%) , немаркированных - 43 (48%). В немаркированном виде патриарх Никона в основном цитирует 7-ю главу (1-5 стихи: "Не судите, да не судимы будете" и пр.) - 16 (37% от всех немаркированных цитат).
Таким образом, в основу системы нравственного богословия Патриархом Никоном полагается хрис-тоцентризм и обожение человека. В частности вопросам христианской любви и смирения посвящен ответ на 18-й, 19-й, 24-й вопросы в "Возражении или Разорении…".
В отечественной литературе имеют место три основные точки зрения: первая - патриарх Никон -реформатор Русской православной церкви[58], вторая точка зрения -патриархом Никоном была проведена "литургическая реформа". Основным признаком "литургической реформы" (в отличие от предыдущего направления, термин "реформа" заключается в кавычки) является появление и последующее распространение нового комплекса богослужебных книг, по набору и редакции богослужебных текстов отличавшегося от существовавшего ранее. Третья позиция, которой придерживаемся мы, в период патриаршества Никоном была осуществлена "корректура", герменевтическая справа-синопсизация, проводившаяся патриархом Никоном вплоть до 1658 г. (то есть до оставления им патриаршей кафедры). После 1658 г. дальнейшая судьба справы оказалась полностью в руках царя Алексея Михайловича, справа закончилась в 1695 г.
Эволюция сторонников этих подходов и контексты актуализации идей этих направлений могут быть представлены следующим образом:
Старообрядческая традиция "хуления", разработанная в догматико-полемической литературе раннего раскола (вторая половина 60-х - 70-е гг. XVII в.) представила образ патриарха Никона как "еретика", "антихриста", "алхимика", прелюбодейца", "властолюбца", "мучителя". В период между-патриаршества (1658 - 1666 гг.)
государственная власть в лице царя Алексея Михайловича воспользовалась услугами Паисия Лигарида для создания образа патриарха Никона как "паписта", "зарвавшегося властолюбца ". Старообрядческая идеология 60-70-х гг. XVII в. претерпевала изменения в зависимости от степени манипулирования светской власти раскольничьими вождями, отношение к православному царю варьировалось от "благочестивого государя, царя-света" в 1664 г. до "рожка антихриста" после смерти Алексея Михайловича в 1676 г. Социокультурный архетип Никона как "культурного антигероя" представал в эмоционально-нагруженном виде, недоступном для авторской рационализации поведенческом коде. В пространстве конфликта привычные структуры заполнялись чужеродной культурной традицией.
Для историков XVIII - первой половины XIX вв. патриарх Никон - властолюбивый теократ, посягнувший на царскую власть. С 60-х гг. XIX в. наблюдается выстраивание образа равнозначности фигур патриарха Никона и протопопа Аввакума. Идейное наследие патриарха Никона либо полностью игнорировалось, либо оценивается как незначительное. За основу построений историков брались положения, высказанные Паисием Ли-гаридом и старообрядцами. Эта тенденция нашла отражение также и в советской историографии, где были достигнуты значительные результаты в реконструкции экономической жизни русского государства и церкви XVII в., а также в изучении литературных памятников старообрядчества. Личность патриарха Никона оценивалась как "феодал в рясе", историческое значение которого незначительно.
Отдельные элементы деятельности патриарха (создание монастырей, школы церковного пения, изразцовых мастерских) изучались искусствоведами, духовные искания, история идей - филологами, семиотиками, причем значительно ярче и глубже, чем профессиональными историками. Однако аналитическая обработка исторических источников составляла скорее исключение, нежели чем правило.
В "неостарообрядческом" дискурсе негативно эмоционально окрашенный стереотип патриарха Никона служит одним из оснований для постмодернистского эпатажа и нового мифотворчества, в котором "древлеправославие" становится новейшим идеологическим конструктом. Опорными знаками-маркерами коллективной памяти - и, одновременно, нормативными единицами знания, призванными утверждать аутентичность исторического происхождения и специфику формирования российского государства, служат такие концептуальные конструкции как: общинный коллективизм, самобытность, соборность, православная цивилизация, русская духовность, якобы разрушенная "реформами" якобы "безграмотного" патриарха Никона, причем базовые слова выдержаны в риторике национальной катастрофы. Подобные конструкты призваны репродуцировать идеи народно-государственного единения на базе культурно-исторической самобытности. Этим же конструктам может придаваться и негативный характер, когда православная самобытность староверов мыслится как социальный протест народных масс централизации, проводимой господствующим классом, и тесно связанной с внешнеполитическим курсом правительства, нацеленным на усиление влияния на Украине.
Не надо сбрасывать со счетов и современные политологические модели, толкующие Православие как имперскую идеологию, которой либеральное общество должно противостоять, и Патриаршество с его канонической основой как фундамент "захвата власти РПЦ".
В почитании патриарха Никона как местночтимого святого зарождалась традиция апологетики патриарха параллельно с официальной критической традицией (также с 80-х гг. XVII в.).
Церковные историки опубликовали основные источники по "Делу" патриарха Никона, идейному наследию и хозяйственной деятельности. Н.И. Субботин, Н.А. Гиббенет, В. Палмер создали методологический аппарат, способствующий возможному осмыслению источниковой базы. В парадигме православного историзма патриарх Никон стал рассматриваться как православный пастырь, разработавший основы нравственно-государственной идеологии русского православного самосознания.
В предложенном аспекте исследовалось письменное наследие патриарха Никона в работах русскоязычных зарубежных историков. Вовлекались в научный обо- рот новые источники (описания церемоний, формулярных сборников церковного содержания и др.).
Несмотря на концептуальную противоречивость и дискурсивное многоголосие, постепенно преодолевается идеологическая ангажированность, расширяется источни-ковая база, увеличивается объем публикаций источников, особенно за 2004 - 2005 гг. Отметим, что в большинстве случаев присутствует латентная консервативная методологическая установка на реконструкцию "белых пятен", недостающих звеньев уже известного, и она становится своеобразной формой консолидации гуманитарного сообщества. Научная интерпретация идеологических, богословских составляющих воззрений патриарха Никона присутствует в работах философов (В.В. Шмидт), филологов (С.К. Севастьянова), а историки изучать идеологическое наследие патриарха Никона избегают, тогда как богословские основания старообрядчества активно изучаются.
На наш взгляд, именно недостаточное внимание историков к реконструкции и исследованию воззрений патриарха Никона приводит к необходимости изучения его методов работы с источниками, концептуальной и авторской модели мира, трансляции культурносемиотических ориентиров царю и государственной власти в целом, церковной элите и прицерковному кругу. В этом ключе нам видится перспектива исследования проблемы личности и воззрений патриарха Никона в отечественной историографии.
Изучение структурообразующих элементов воззрений патриарха Никона стало возможным благодаря обращению с сущностной стороне вопроса - анализу его текстов, а не только к факту сфабрикованного "дела" и суда над патриархом Никоном. Тем более, что в "Возражении или Разорении…" патриарх Никон детально опроверг все предъявленные обвинения и указал на последствия расколотворческих деяний светской власти для общества, государства и Русской православной церкви.
Идейное наследие патриарха Никона имеет ярко выраженные каппадокийские корни, это выражается, в первую очередь в цитировании Свтт. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста в тексте "Возражения или Разорения…"
и использовании их приемов и методов аргументации. Метод работы патриарха Никона с текстом первоисточника можно охарактеризовать как реконструктивную интертекстуальность, т.е. авторскую творческую реакцию на чужой литературный материал. Данный прием наиболее типичен для работы книжника, который осознает себя сакральным носителем Божественной истины, таким образом, чужой текст является субсистемой системы историко-канонических и богословских воззрений патриарха Никона.
Благодаря комплексному по-уровневому анализу интертекстуальных (библейских) включений в произведениях патриарха Никона, мы пришли к выводу, что особенность его интерпретации обусловлена православными социокультурными ценностями (стяжанием Горнего мира), находящими субъективное отражение в концептуальной системе Никона-мысли-теля. Апологетическая парадигма, основанная на теории православной антропологии, которая означает первичность христоцентричной модели по отношению к антропо-социо- центричным и прочим моделям, разработала адекватный подход к изучению теоретического и эпистолярного наследия патриарха Никона, что позволило реконструировать реальные истори-чески-обоснованные воззрения и деяния патриарха.
Христианская антропология патриарха Никона развивала учение о человеке, созданное свтт. Василием Великим, Григорием Назианзином, Григорием Нисским, Иоанном Златоустом, что было свойственно для средневековой русской книжности вообще, хотя считается, что до XVI в. самостоятельных систем антропологических воззрений не было. Древнерусский книжник следовал форме святоотеческого наследия и в этих нормативных рамках создавала тексты, восходящие к наследию восточных Отцов Церкви. Патриарх Никон синтезировал святоотеческое учение о непознаваемости и непостижимости Бога, практическое благочестие состоит в исповедании Имен Божиих.
Решение вопроса об обожении человека (образ как обладание энергиями первообраза - он отождествляет этот вопрос с образом Божиим в человеке), непостижимости Божией, патриархом Никоном вполне сопоставимо с антропологией Григория Нисского и, кроме того, находит выражение в практической храмоздательной (строительной) деятельности патриарха как моделирование икон сакральных пространств Святой Земли (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь), Афона (Иверский Валдайский монастырь), образ Креста Иисуса Христа (Крестный Кий-островский монастырь). Не случайно совпадение периода начала строительства Воскресенского монастыря с охлаждением дружбы царя и патриарха, мотивы патриарха Никона при строительстве монастыря Нового Иерусалима становятся более ясны лишь в связке со спором царя и патриарха о симфонии властей.
Конфликт лишь на поверхности выражался как спор между царем и патриархом, но это было противостояние идеологемы Третьего Рима Алексея Михайловича идеологеме Нового Иерусалима патриарха Никона. Идеология "Москва - Третий Рим", конечно, была церковной, православной, но идеологема Третьего Рима рассматривается нами как один из элементов, из которых складывается самосознание народа. Обладая мировоззренческой, ценностно-ориентационной и регулятивной функциями, идеологема твердо стоит на страже интересов господствующих социальных групп и государства. В ней основная идея является одновременно нормой, направляющей воззрения граждан в строго определенное ценностно-смысловое русло. Третий Рим олицетворяет, в том числе, мощь и величие древнего античного Рима, а Новый Иерусалим - особое заветное отношение народа с Богом; Третий Рим имеет мирскую, светскую направленность, авторитет царства, а Новый Иерусалим - ориентацию на авторитет священства, духовную избранность, христоэкклеси-ологическую модель бытия; идеологеме Третьего Рима присуща имперская экстравертная направленность, а Новому Иерусалиму -метаисторическая направленность существования в виде последнего перед вторым пришествием царства, Русь как новый Израиль является частью и продолжением библейской истории. Христиане Русского государства - "люди Господни ", Русская земля - избранная Богом и в этом смысле аналогичная земле Израиля.
Церковно-канонические убеждения патриарха Никона основаны на церковном законодательстве эпохи Вселенских Соборов, что почиталось в XVII в. нормативным кодексом Русской Православной Церкви. Воззрения патриарха Никона строились на материале "Эпа-нагоги", на которую он ссылается более 20 раз в "Возражении или Разорении…". Причем ни разу патриарх Никон не пишет о требовании для патриарха каких-либо прав в делах государственного управления, следовательно, тезис о "папоцезаризме" патриарха Никона не более чем историографический штамп и элемент политической мифологии.
В захвате царем церковной власти по управлению церковью патриарх Никон видел отступление от Св. Писания и св. канонов, которое будет почвою для появления антихриста. Ни один человек не может противодействовать канонам Церкви, учению св. отцов и законам царства, или что-либо возражать против них: каждая имеет свой собственный порядок и права, установленные Богом, и каждая должна поддерживать и защищать свой собственный порядок для себя, на свою собственную ответственность. Если царь попрал каноны, а архиереи ему покорились, то и архиереи подвергли себя церковной анафеме и потеряли свое священство. Согласно концепции пастырства патриарха Никона, патриарх имеет право и долг контролировать по мерке христианского идеала всю государственную жизнь и обличать все ее уклонения от норм канонических, не щадя и самого царя. Именно это, по мнению многих исследователей не позволило Святейшему Патриарху вернуться на патриаршую кафедру. И царю Алексею Михайловичу оставалось окончательно низложить опасного в государственном смысле иерарха. Вопрос об архипастырской правоправности является важным для патриарха Никона в связи с судом над ним.
Понимая церковь как совокупность руководящих законов жизни, Никон в ее вселенском законодательстве видел верховные нормы, обязательные для государства, поэтому и предостерегал его от самоосвобождения от церковных начал (в Соборном уложении 1649 г. оно уже вступало на этот путь и переставало принимать во внимание церковные каноны, эмансипируясь вообще от церковного влияния в законодательстве), так как в этом случае оно неизбежно вернулось бы к естественным началам, которые противны церковным, как языческие начала - христианским.
Патриарх Никон отстаивал "симфоническое" единство церковно-государственного устройства и управления на принципах христо-центричной картины мира. Эккле-сиологичность - стремление к оцерковлению всех без исключения сторон жизни и человека, и общества, и государства было общей основой идеологии и патриарха Никона, и расколоучителей.
Патриарх Никон описывает современный ему период как время третьего "великого борения" за "Святыя Животворящыя неразде-лимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа", исповедуя христо-логическое богословие, направленное на выражение единства Господа Иисуса Христа при одновременном утверждении Его истинности и совершенства как Бога и истинности и совершенства как человека. В христологическом богословии, в отличие от богословия тринитарного, в рассмотрение непосредственным образом включается человек. Для догматико-полемической традиции раннего раскола свойственен тринитаризм. Протопоп Аввакум защищает догмат о телесном сошествии Христа в ад, отстаиваемый крайними монофизитами юлианитского толка (акти-ститами). Староверы сосредоточены на свойствах отдельных ипостасей Бога, на роли Христа в спасении людей ("крест Христов, а не Троицын"), малейшее отступление от этой точки зрения расценивается как ересь ("Отца и Сына сливают во едино лице"). Патриарх Никон осмысляет догмат Триединства и роли в спасении людей не только Христа, но и всей Св. Троицы.
Патриарх Никон разработал принципы канонического устройства Церкви, а также канонические вопросы взаимодействия Церкви и государства (экклезио-эсха-тологические и нравственно-аскетические). Существенная разница в доминирующей тенденцией заключается в том, что патриарх Никон не обращался к прошлому русской национальной духовности (вечность - в прошлом) как единственному благодатному времени церковной истории, в его представлении внеисторично не "предание отцов", а неиссякающая благодать
Божия. Для теоретиков догматикополемической традиции раннего раскола (Ивана Неронова, протопопа Аввакума, дьякона Федора и др.) историческое прошлое является объектом, к которому обращаются за доказательством исторической преемственности, прецедентности православных догматов, якобы нарушенных патриархом Никоном в ходе справы, за счет неприемлемого обращения к греческим книгам, пострадавшим, "олатинившимся" из-за Ферраро-Флорентийского собора 1439-1440 гг.
Старообрядцы не хотели порывать с традициями, торопить и подгонять историю; они были духовно "растворены" в ней", но неверно было бы отрицать, что самоидентичность Русской православной церкви к середине XVII в. строилась вокруг хранения старых обрядов, тогда как в нормальном православном сообществе таким стержнем выступают догматы, каноны и воспроизводящее все это монашеское делание. Что было бы с Русской православной церковью, если бы стержень обрядоверия не был сломан, мы видим на примере множества различных старообрядческих толков.
Государство, по мнению патриарха Никона, должно строится по принципам горнего мира, и главная функция патриарха - защитить общество (паству) от нестроений. Патриарх несет в себе образ Христов - духовный и материальный, чувственный, в этом и заключается высший смысл обоже-ния. Патриарх Никон собрал в "Возражении" основной блок эсхатологических пророчеств и цитат не только из Священного Писания, Отцов церкви, но и богословско-полемической литературы того времени. Он видел в апоста- сии (вероотступничестве) знаки наступления антихристова царства и грядущую гибель Отечества, и он боролся с этим мольбами, протестами, уходом с кафедры, отряхиванием праха от ног своих, анафемой на правонарушителей, грозными пророчествами, своей непреклонной стойкостью в посылаемых на него гонениях.
Основы пастырского богословия патриарха Никона сосредоточены в монастырском уставе - "Духовном завещании", созданном после оставления патриаршей кафедры. Пастырские обязанности, рассматриваемые патриархом Никоном, таковы: учительное руководство в "святой молитве", "умном послушании евангельским и апостольским словесам", "пении и славословии", "смиренной работа-ти", духовничество, борьба с суевериями, проповедь, священнодейство, наблюдение за пристойным поведением прихожан во время службы, душепопечение. В "Духовном завещании", кроме общих назиданий о благочестии, патриарх дает указания о долженствующем епископам, священникам и диаконам, т.е. тем, кто призван хранить духовный закон и веру в чистоте и неповрежденности. В практической деятельности патриарх Никон шел по пути наиболее сложных типов христианского подвижничества (предпринимая духовные подвиги столпничества и юродства, имея дары прозорливца и целителя). Исследование пастырского богословия как практического, на примере чудес исцелений Святейшего патриарха Никона, позволяет определить особенности его ценностной картины мира, выделить когнитивные слои: 1) "чудо как мерило Первосвятительства" (предстояние перед Богом за Царя и
Список литературы Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона
- Балалыкин, Д.А. Русский религиозный раскол в контексте церковно-государственных отношений второй половины XVII в. в отечественной историографии. Автореф. докт. ист. наук. 07.00.09. М., 2007. -69 с.
- Бубнов, Н.Ю. Никон//Словарь книжников и книжности Древней Руси: [В 3 вып.]/Рос. АН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) Вып. 3. XVII в.: И-О СПб.: Дмитрий Буланин, 1993 -438,[1] с. С. 400-404.
- Белокуров, С.А. 1. Послание Восточным Патриархам, Макарию Антиохийскому и Паисию Александ- рийскому, приехавшим в Москву для суда над Патриархом Никоном, по рукописи Московской Синодальной библиотеки // Христианское чтение. - 1886. - № 1-2. С. 292-296; 2. Материалы для русской истории / / Сост.:
- Вальденберг, В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти:: очерки русской литературы от Владимира Святого до конца XVII века/Владимир Вальденберг Москва: Территория будущего, 2006 -365, [1] с.С. 313-316.
- Дорошенко, С.М. 1. Никон, милостью Божией Патриарх Московский: летопись жизни и деятельности: рукопись/Дорошенко Светлана Михайловна. -Москва: б.и., 2000. -318 л. См. также: Севастьянова, С.К. Материалы к "Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона"/С. К. Севастьянова; Ин-т филологии СО РАН, Ист.-архитектур. и художеств. музей "Новый Иерусалим" СПб.: Дмитрий Буланин, 2003 -518,[2] с.
- Гиббенет Н.А. Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. 1. 1882. VIII, 270 с.; Ч. 2. 1884. XIV, 1124 с. СПб., 1882-1884.
- Зеньковский, С.А. Русское старообрядчество: Духов. движения 17-го в./С. А. Зеньковский. -[Репринт. воспроизведение] М.: Церковь, 1995 -527,[1] с.;22 см -Предисл. парал.: англ., рус.. -Перепеч. изд.: Russia's old-believers/Serge A. Zenkovsky (Miunchen). С. 496
- Зверева, Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальн-рой истории//Одиссей. Человек в истории. Исслед. по соц. истории и истории культуры/АН СССР. Ин-т всеобщ. истории Одиссей. 1996. М.: Coda, 1996. С. 13.
- Зызыкин, М.В. Патриарх Никон: Его гос. и канон. идеи: В 3 ч./М. В. Зызыкин. -Репринт. воспроизведение изд. 1931-1938 гг. М.: Науч.-изд. центр "Ладомир", 1995 -[1082] с.ил.. См. также: Серафим (Соболев). Русская идеология. Русская идеология. -София, 1937. 180 с. (2-е издание -Джордан-вилль, 1981. 184 с.). -СПб., 1993.
- Palmer, William. The patriarch and the tsar. -Vol. 1-6. -L.: Trubner, 1871-1876.
- Lectures of the History of the Eastern Church, by Arthur Percy Stanley. Oxford, 1861.
- Cherniavsky, M. 1. Tsar and People. Studies in Russian Myths. -New Haven; L., 1961; 2. The Old Believers and the New Religion. In The Structure of Russian History: Interpretive Essays. Edited by Michael Cherniavsky. -New York: Random House, 1970; Schmemann Alexander, Archpriest. The Historical Road of Eastern Orthodoxy. -N. Y., 1963.
- Tumins A., Vernadsky G. Patriarch Nikon on Church and State. Nikon's "Refutation". Berlin-New-York-Amsterdam, 1982. -829 р. P. 80-673, 679-785.