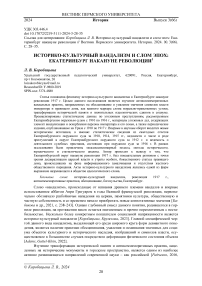Историко-культурный вандализм и слом эпох: Екатеринбург накануне революции
Автор: Коробицына Л.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Империя и силовые структуры
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену историко-культурного вандализма в Екатеринбурге накануне революции 1917 г. Целью данного исследования является изучение антикоммеморативных вандальных практик, направленных на обесценивание и умаление значения символов власти императора и правящего дома, как важного маркера слома морально-нравственных устоев, трансформации исторической памяти и значительных идеологических сдвигов в социуме. Проанализированы статистические данные по уголовным преступлениям, рассмотренным Екатеринбургским окружным судом с 1910 по 1916 г., материалы уголовных дел, содержащих элемент вандализации и оскорбления персоны императора и его семьи, а также периодические издания, опубликованные на Урале с 1910 по 1917 г. Впервые в научные оборот вводятся новые исторические источники, а именно: статистические сведения из ежегодных отчетов Екатеринбургского окружного суда за 1910, 1914, 1915 гг., ведомости о числе и роде преступлений в округе Екатеринбургского окружного суда за 1912 г. и ведомость о деятельности судебных приставов, состоящих при окружном суде за 1916 г. В рамках исследования были привлечены междисциплинарный подход, методы исторического, юридического и статистического анализа. Автор приходит к выводу о том, что Екатеринбургский округ накануне революции 1917 г. был показательным регионом с точки зрения десакрализации царской власти и утраты особого, божественного статуса правящего дома, происходивших на фоне информационного замалчивания и отсутствия жесткого общественного порицания. Акты историко-культурного вандализма являлись одной из форм выражение назревающего в обществе идеологического слома.
Историко-культурный вандализм, революция 1917 г, антикоммеморативные практики, обесценивание, богохульства, екатеринбург
Короткий адрес: https://sciup.org/147246549
IDR: 147246549 | УДК: 303.446.4 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-28-35
Текст научной статьи Историко-культурный вандализм и слом эпох: Екатеринбург накануне революции
Слово «вандализм», происходящее от названия древнего племени вандалов и впервые использованное аббатом Анри Грегуаром в годы Великой французской революции, первоначально обозначало разбойничьи нападения на церкви, памятники культуры, общественную и частную собственность и со временем начало приобретать новые коннотативные значения [ Бабикова и др., 2021, с. 238‒243]. Однако глубинный смысл данного понятия, родившегося в горниле революции, на протяжении веков остается неизменным и прочно переплетенным с нестабильностью. Несколько более конкретным показателем социальной напряженности является историко-культурный вандализм [ Коробицына , Кружкова , 2023]. Главной специфической чертой данного вида вандализма, выделяющей его среди широкого круга форм девиантного поведения, является наличие практики обесценивания, умаления и осмеивания значимых для социума объектов культурного и исторического наследия, изображений и символов власти, осуществляемое в большинстве случаев посредством деформации физического состояния объекта [ Adams , Guttel-Klein , 2022].
Изучение трансформации исторической памяти и антикоммеморативных практик, нацеленных на исторические монументы и городское пространство, является одним из наиболее активно развивающихся направлений современной науки ‒ как российской [ Радченко , 2016,
2019], так и мировой [ Chloupek , 2023; Debruyne , 2023; Kosatica , 2023]. Отечественными исследователями внесен значительный вклад в разработку темы восприятия власти и фигуры царя в контексте совершения преступлений по оскорблению членов императорской семьи (см., напр., [ Колоницкий, 2010; Коновалова , 2014; Корнева , Солнышкин , 2022; Сафонов , 2016]). Вместе с тем остается открытым вопрос о роли историко-культурного вандализма не только как проводника антикоммеморативных тенденций и трансформации исторической памяти, стихийно проявляющих себя через уголовные преступления, но и ‒ в случае неуклонного роста их частотности, на фоне отсутствия социального порицания - характеризующего серьезные ценностноидеологические сдвиги во всем обществе.
Одним из наиболее малоизученных периодов российской истории по-прежнему остается начало ХХ в., в особенности канун революции 1917 г. ‒ время, когда Россия неуклонно двигалась в сторону колоссального перелома, затронувшего без исключения все сферы жизни общества - политическую, экономическую, социальную и культурную. Несмотря на значительную удаленность от столиц, одним из наиболее напряженных регионов был Урал, в частности, Екатеринбург, где революционные настроения нашли крайнюю форму выражения в виде расстрела царской семьи. В связи с этим интерес представляет то, каким образом в канун революции на Урале проявлялся историко-культурный вандализм в отношении персоны императора и императорского дома, а также иных символов государственной власти.
Изучение вандализма как социального феномена, в особенности затрагивающего деятельность подростков и молодежи, заняло прочное место в современном российском научном поле. При этом употребление термина «вандализм» было обусловлено, с одной стороны, активным насыщением русского языка, в том числе официального, с конца 1980-х гг. иностранными заимствованиями, а с другой стороны, существенным ростом числа актов вандализма, которые требовали самоназвания, отражения в законодательстве и осмысления. В связи с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащего статью 214 «Вандализм», данное понятие стало не только общеупотребимым, но и вошло в официальные нормативноправовые документы, получив дальнейшее развитие в статьях 243 и 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уголовный кодекс Российской Федерации). Вместе с тем очевидным является то, что в законодательстве Российской империи начала ХХ в. подобная терминология отсутствовала, и преступления, носившие характер историко-культурного вандализма в отношении императора и членов императорского дома, могли подпадать под целый ряд статей Уголовного уложения 1903 г. (Новое уголовное уложение…). Примерами подобных актов выступали нападения и выкалывания глаз и рта на портретах Николая II и иконах святого Николая Чудотворца или Георгия Победоносца, использование бранной лексики в отношении членов царской семьи, в особенности матери императора Марии Федоровны, а также попытки напоить изображение императора водкой.
В ходе работы в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО), в частности с материалами Екатеринбургского окружного суда, нам удалось выделить несколько типов преступлений и проступков, в число которых входили акты, в современной терминологии именуемые историко-культурным вандализмом: преступления религиозные; преступления государственные (бунт против верховной власти и преступления против особы государя и членов императорского дома, государственная измена и смута, преступления против народного права); преступления против порядка управления.
Вышеуказанные типы преступлений и проступков соответствуют сводной ведомости № 2 ежегодной формы отчетности, установленной Министерством юстиции Российской Империи, содержавшей статистические данные о «распределении возникших следствий по родам и по месту совершения преступления и проступков по округу Екатеринбургского окружного суда». В настоящее время в ГАСО сохранилось три ежегодных отчета - за 1910, 1914, 1915 гг. (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 2082. Л. 54; Д. 2412. Л. 31‒34, 72‒73) (табл. 1). Кроме того, нами были привлечены сведения из ведомости о числе и роде преступлений в округе Екатеринбургского окружного суда за 1912 г. (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 2312. Л. 1) (табл. 2), а также ведомость № 8 о дея- тельности судебных приставов, состоящих при окружном суде за 1916 г. (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5.
Д. 2600) (табл. 3).
Таблица 1
Количество возникших следствий по роду и месту совершения преступления и проступка по округу Екатеринбургского окружного суда за 1910, 1914, 1915 гг. (выдержка)
|
Преступления |
Итого по округу суда |
|||||
|
и проступки |
1910 г. |
1914 г. |
1915 г. |
|||
|
Города |
Уезды |
Города |
Уезды |
Города |
Уезды |
|
|
Преступления религиоз- |
4 |
42 |
— |
53 |
5 |
40 |
|
ные |
||||||
|
Преступления государственные: а) бунт против верховной власти и преступления против особы государя и членов императорского дома |
2 |
13 |
2 |
12 |
1 |
10 |
|
б) государственная измена |
‒ |
2 |
‒ |
1 |
‒ |
1 |
|
и смута в) преступления против народного права |
‒ |
1 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Преступления против порядка управления |
19 |
86 |
17 |
98 |
20 |
81 |
Таблица 2
Ведомость о числе и роде преступлений в округе Екатеринбургского окружного суда за 1912 г. (выдержка)
|
Род преступлений |
Итого по всем уездам и городам |
|
Отделение I |
|
|
Богохулие и порицание веры |
55 |
|
Отступление от веры и постановлений церкви |
4 |
|
Оскорбление святыни и нарушение церковного благочиния |
1 |
|
Отделение II |
|
|
Преступления против священной особы государя императора и членов императорского дома |
9 |
|
Бунт против верховной власти и государственная измена |
‒ |
|
Отделение III |
|
|
Сопротивление распоряжениям правительства и неповиновение установленным властям |
33 |
Таблица 3
Ведомость о движении уголовных дел у уездных членов и городских судей по округу Екатеринбургского окружного суда за 1916 г. (выдержка)
|
Название проступков |
Число дел, возникших в 1916 г. |
|
|
у уездных членов |
у городских судей |
|
|
Преступления религиозные |
2 |
— |
|
Проступки против порядка управления |
65 |
269 |
Статистические показатели, охватывающие 1910–1915 гг., представляют довольно стабильную картину колебаний числа совершенных преступлений по выбранным нами категориям. Вместе с тем примечательно, что на протяжении указанного периода наибольшее количество преступлений совершалось в уездах; среди религиозных проступков в 1910 г. лишь 8 % пришлись на городское население, в 1914 г. – 0 %, а в 1915 г. – 11,1 %. Схожую картину мы можем наблюдать применительно к данным по преступлениям против порядка управления: в 1910 г. только 18 % преступлений были совершены в городах, в 1914 г. – 14,7 %, в 1915 г. – 19,8 %. Вместе с тем уже в 1916 г. число проступков против порядка управления в сравнении с 1915 г. увеличилось более чем в 3 раза, в то время как процент преступлений, зафиксированных в городе, достиг 80,5 %. Данная категория правонарушений оставалась одной из наиболее многочисленных с 1910 г., однако только в 1916 г., накануне революции 1917 г., эпицентры оппозиционных настроений переместились из уездов в города.
Безусловно, среди указанных статистических показателей лишь некоторая часть преступлений может быть отнесена к историко-культурному вандализму, вместе с тем они позволяют сформировать более целостную картину и нивелировать ограниченное количество уголовных дел, сохранившихся в фонде Екатеринбургского окружного суда, подпадающих под примеры вандальных актов.
В 1908–1910 гг. в Екатеринбурге было рассмотрено два уголовных дела в отношении мещанина Устина Николаевича Белопашенцева (ГАСО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 52) и крестьянина Константина Емельяновича Катаева (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1990). В марте 1908 г. в селе Чердын-ском в доме У. Н. Белопашенцева были гости, среди которых находился К. Е. Катаев. Захмелев после выпитой водки, Белопашенцев в разговоре, указывая на портрет государя, произнес: «Вот кровопивец, всю кровь из чернорабочего народа выпил!» – и ударил при этом по портрету рукой. Его примеру последовал Катаев, который также ударил по портрету рукой, а затем, указывая на висевшую в переднем углу икону Николая Чудотворца, сказал: «Вот, тоже Николка». Белопашенцев ударил кулаком по иконе Георгия Победоносца и посоветовал Катаеву выколоть глаза Николаю Чудотворцу, и тот, как бы исполняя, ткнул двумя пальцами в глаза святого. После чего, используя нецензурную лексику, Белопашенцев и Катаев принялись поносить императора. Вскоре компания направилась на прогулку, по возвращении с которой, выпив еще одну бутылку водки, они продолжили «диалог» с изображением Николая II. В частности Катаев, подойдя с рюмкой к портрету императора, сказал: «На, Николка, выпей!» – и несколько раз ударил рукой по портрету (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1990. Л. 2).
Среди архивных документов также встречаются материалы, при рассмотрении которых очевидным становится стремление суда замять дело и списать действия правонарушителя на умственное или психическое расстройство вне зависимости от сословной принадлежности.
30 апреля 1907 г. действительный статский советник Алексей Градов ворвался в здание вокзала в нетрезвом виде, поносил правительство и, отказываясь прекратить сцену, сказал: «Е** я их всех, Правительство, Государя Николая II и Государыню Марию Федоровну! Что они мне дали? А я Генерал!». А затем добавил: «Вы все кровопийцы, пьете крестьянскую кровь, пейте и мою генеральскую» (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1877). Уже в июле 1907 г. дело было закрыто ввиду признания действий А. Градова совершенными в состоянии умственного расстройства.
В 1910–1911 гг. в Екатеринбургском окружном суде на рассмотрении находилось дело об обвинении крестьянина села Ильинского Николая Ивановича Качалкова в надругательстве в пьяном виде над портретом царя. 25 ноября 1910 г. в городе Верхотурье в помещении общественного собрания крестьянин Н. И. Качалков, находясь в нетрезвом состоянии, в присутствии посторонних лиц, заметив висевший на стене портрет царствующего государя императора, начал произносить по отношению особы его величества бранные слова, а затем, схватив портрет, проткнул пальцами глаза и рот у изображения государя императора и стал рвать портрет и топтать его ногами (ГАСО. Ф.11. Оп. 5. Д. 2151. Л. 2). По результатам рассмотрения дела у Ка-чалкова было выявлено психическое расстройство, а все действия были признаны совершенными в состоянии психоза.
Не меньший интерес представляет дело об обвинении учителя Аркадия Петровича Луканина в оскорблении царя, рассмотренное Екатеринбургским окружным судом в 1909–1910 гг. Согласно рапорту, во время репетиции школьного спектакля учитель А. П. Луканин, увидев портрет императора, принялся размахивать руками и требовал «убрать его отсюда к черту», потому что «его давно пора сжечь в печи» (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 2018. Л. 2). По решению суда, все обвинения в отношении учителя были сняты ввиду отсутствия достаточных доказательств.
Значительная часть уголовных дел об оскорблении персоны царя и членов царской семьи, содержащихся в фондах ГАСО, не включала как такового элемента вандализации, т.е. физического воздействия и нападения на символы и изображения власти, и ограничивалась словесным выражением недовольства. Вместе с тем они подчеркивают общий тренд критики не только власти императора, но и церкви. Во время урока учитель истории Камбарского завода Дмитрий Тимофеевич Сухов, говоря о выплате дани монголо-татарам во времена золотоордынского ига, спьяну добавил: «Мы и теперь платим дань безбожнику Царю» (ГАСО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 43). Во время церковной службы крестьянин Режевского завода Григорий Прокопьевич Лукин сказал: «Нынче царствующих государь делает неправду, это – скотина, бессловесное животное» (ГА-СО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 44). В городе Троицке мещанин, будучи в алкогольном опьянении, сказал в личной беседе: «Я не боюсь ни Бога, ни царя, мать его ети – наш царь, он нам не дает земли, а монашкам, б**, – дал; царица у него – б**», – затем указал на икону со словами: «Марья б**; надо побросать иконы к порогу и вытирать об них ноги» (ГАСО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 47). Не менее эмоционально яркими были высказывания крестьянина Степана Чистякова, который критиковал царя и церковь: «Ни священников, ни церкви, мать их ети, нам не надо. Я не только их буду материть, но и Царя, что он, мать его ети, и с Государственной Думой управиться не может» (ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1914).
Примечательна позиция профессора Б. И. Колоницкого в отношении преступлений об оскорблении фигуры царя: «Если верить современной уголовной статистике, оскорбление представителей царской семьи – это прежде всего преступление “пьяное”, “русское” и “крестьянское”. Вряд ли, однако, представители иных сословий и других этнических групп реже, мягче или осторожнее оскорбляли в своих речах членов царствующего дома Романовых. <…> Вернее было бы предположить, что в русской крестьянской, деревенской среде в силу различных причин чаще находились желающие информировать власти о преступлении этого рода, а образованные горожане разного положения сравнительно редко использовали именно это обвинение в своих доносах» [ Колоницкий , 2010, с. 45‒46]. В рамках рассмотренных нами дел прослеживается сословное разнообразие с преобладанием представителей крестьянства, что отчасти может быть обусловлено спецификой региона.
Тесное сопряжение образа царя с церковью, нападения на иконы Николая Чудотворца как покровителя императора Николая II, а также на святого Георгия Победоносца – защитника Родины, оскорбление вдовствующей императрицы Марии Федоровны с параллельным поруганием икон Богоматери указывали на значительные идеологические сдвиги в сторону развенчания и обесценивания сакральных символов божественности власти. Примечательно, что предметом критики со стороны крестьян и разночинцев выступали не император и его супруга, но император и его мать, ассоциирующиеся с двумя главенствующими образами православной церкви – Бог Сын и Богоматерь. Разрушение божественного ореола вокруг правящей фамилии и общее разочарование в церкви как социальном институте, подавляющем волю народа, начинали приобретать зримые очертания. При этом наличие целого ряда секретных уголовных дел, свидетельствующих о стремлении суда списать действия вандалов на психическое состояние или опьянение, подчеркивало, с одной стороны, отсутствие значительного порицания со стороны социума за совершение подобных противоправных поступков, а с другой стороны, стремление не предавать подобные преступления всеобщей огласке.
Гриф секретности и закрытый характер рассмотрения дел о богохульствах и оскорблении персоны императора распространялся не только на официальные органы суда и исполнительной власти, но и находил, а точнее не находил, выражение на страницах уральской прессы начала ХХ в. По результатам рассмотрения заметок о событиях и преступлениях, публикуемых с 1910 по 1917 г. в разделе «Хроника» газет «Уральская жизнь», «Уральский край», «Зауральский край», «Белый цветок», «Екатеринбургский обыватель» и «Уральская речь», было обнаружено лишь одно упоминание о преступлении, схожем с актом вандализма в отношении сакральных объектов. В газете «Зауральский край» от 21 декабря 1913 г. в местной хронике был описан единичный случай святотатства. В селе Клеопинском крестьянин Е. П. Воронин похитил из церковной кружки, прикрепленной к столбу церковной ограды, деньги мелкою монетою, затем начал пьянствовать и таким образом был уличен в преступлении (Зауральский край, 1913). Среди многочисленных изданий не было обнаружено ни одной заметки, посвященной богохульству и оскорблению императора, императорской семьи или иных символов власти. Наличие значительного числа преступлений, зафиксированных Екатеринбургским окружным судом в аналогичный период, свидетельствует о целенаправленном стремлении власти исключить распространение сведений о возможной десакрализации фигуры правителя и церкви в публичном информационном пространстве. Вместе с тем, как показали дальнейшие события 1917 г., подобные практики замалчивания не принесли ожидаемых результатов, а лишь создали видимость отсутствия назревающего в обществе идеологического слома и психологической готовности населения к развенчанию прежних морально-нравственных устоев.
Историко-культурный вандализм кануна революции 1917 г., выразившийся в форме нападений на портреты императора как символы монаршей власти: удары, выкалывание глаз, разрывание и втаптывание изображения царя, произнесение богохульств перед портретом и в отношении него, – выступает важным маркером общественных настроений и трансформации представлений социума о правителе не только с позиции субъекта, совершающего акт, но и с позиции реакции общества на подобные действия. При этом такого рода преступления выступали не столько актом хулиганства, сколько способом выражения политической позиции, жестом десакрализации власти, умаления традиционных для того общества культурных ценностей и формой протеста, обладающей такими признаками вандализма, как осквернение и порча.
Екатеринбургский округ накануне революции 1917 г., вопреки своей географической удаленности от столичных городов, являлся показательным регионом с точки зрения анализа эволюции взглядов общества. Богохульства и преступления в отношении императора и его семьи, происходившие на фоне информационного замалчивания с наличием прецендентов «сворачивания» уголовных дел и списывания действий преступников на психическое или умственное состояние, а также алкогольное опьянение, создавали условия отсутствия публичного осуждения подобных действий.
Недовольство политикой императора связывалось крестьянами и разночинцами не со светским проявлением властных полномочий, но со значительной утратой доверия к церкви как институту, поддерживающему особый божественный статус правящего дома. Тесная сопряженность православной церкви и царской власти, создаваемая и поддерживаемая русскими правителями на протяжении столетий, обусловила появление накануне революции 1917 г. порочного круга: недовольство государственной политикой обусловливало разочарование в православной вере, а разочарование в действиях православных служителей ставило вопрос о реальной сакральности власти Николая II. Акты историко-культурного вандализма, направленные на обесценивание статуса императора и идущие рука об руку с богохульствами и преступлениями против порядка управления, являлись лишь одной из форм выражения назревающего в обществе идеологического слома. Вместе с тем мы можем говорить о возможной результативности использования современного терминологического аппарата к событиям прошлого с целью выявления новых подходов к изучению трансформационных процессов, происходящих в социуме, и социально-культурных механизмов, обеспечивающих их.
Список литературы Историко-культурный вандализм и слом эпох: Екатеринбург накануне революции
- Бабикова М.Р., Блинова О.А., Воробьева И.В. [и др.]. Культурный код вандализма: опыт кросс-культурного исследования / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2021. 308 с.
- Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 664 с.
- Коновалова Н.А. Об изучении проблемы оскорбления крестьянами особы государя императора в начале XX века // Вестник Омск. ун-та. 2014. № 1. С. 42-47.
- Корнева Н.М., Солнышкин А.А. «Оскорбление Его Величества дерзкими словами» как государственное преступление (на материалах Санкт-Петербургских архивов) // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 10. С. 388-409.
- Сафонов Д.А. Деятельность правоохранительных органов России конца XIX - начала ХХ века по правоприменению статей об «оскорблении величества» // Вестник Оренбург. гос. пед. ун-та. 2016. № 4 (20). С. 171-184.
- Коробицына Л.В., Кружкова О.В. Историко-культурный вандализм как механизм трансформации исторической памяти // Диалог со временем. 2023. № 85. С. 315-325.
- Радченко Д.А. «На человека стал похожим»: советские памятники Украины и России в конфликтном контексте (2013-2015) // Genius Loci: сб. ст. М.: Форум, 2016. С. 435-461.
- Радченко Д.А. Бабы жарят крокодила: право на интерпретацию памятника // Фольклор и антропология города. 2019. Т. II, № 1-2. С. 230-255.
- Adams T., Guttel-Klein Y. Make It Till You Break It: Toward a Typology of De-Commemoration // Sociological Forum. 2022. Vol. 37, no. 2. P. 603-625.
- Chloupek B.R. Commemorative Vigilance Between Totalitarianisms: Slovakia's "Victims Warn" Sculpture, from Counter-Monument to Anti-Monument. 2023. Available at: https://doi.org/10.1016/jjhg.2023.04.007 (accessed: 20.10.2023).
- Debruyne N. Contentious Heritage Spaces in Post-Communist Bulgaria: Contesting Two Monuments in Sofia. 2023. Available at: https://doi.org/10.1016/jjhg.2023.09.003 (accessed: 20.10.2023).
- Kosatica M. Building Monuments, Unleashing Anger: The Material Disruption of Contested Memoryscapes. 2023. Available at: https://doi.org/10.1016/j.emospa.2023.100963 (accessed: 23.10.2023).