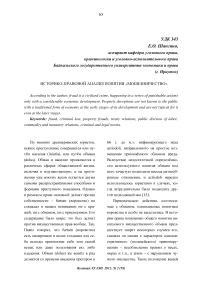Историко-правовой анализ понятия «мошенничество»
Автор: Шангина Е.О.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
По мнению автора, мошенничество - это цивилизованное преступление, происходящее в серии карательных действий только со значительным экономическим развитием. Обманы собственности не известны общественности с традиционной формой экономики на ранних этапах ее развития и не характерны для нее даже на более поздних этапах.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319706
IDR: 14319706
Текст научной статьи Историко-правовой анализ понятия «мошенничество»
По мнению древнеримских юристов, всякое преступление совершается или путём насилия (iniuria), или путём обмана (dolus). Обман и насилие проявляются в различных сферах общественной жизни, включая и имущественную, и на протяжении уже многих веков остаются двумя самыми распространёнными способами и формами преступного поведения. Однако в римском праве основной деликт против собственности – furtum (воровство) не совпадал в нашем понимании ни с кражей, ни с обманом, ни с присвоением. Его содержание было шире: это был деликт против имущественных прав вообще. Так, Павел говорил, что furtum (воровство) есть намеренное в целях создания для себя выгоды присвоение себе или самой вещи, или даже пользования ею, либо владения. Обман (dolus) же вошёл в ряд деликтов со времени введения претором в
66 г. до н.э. инфамирующего иска actiodoli, направленного на простое возмещение причинённого обманом вреда. Вследствие недостаточной определённости используемого понятия обмана под него зачастую подводили весьма разнообразные отношения, и actiodoli нередко использовалось юристами в случаях, когда затруднительно было подыскать другой подходящий иск [15].
Первоначально действия, соотносимые с обманом, охватывались понятием воровства и особо не выделялись. В истории права появлению общего понятия наказуемого имущественного обмана предшествует запрет некоторых случаев его, сначала он связан с характером административного (полицейского) правонарушения – несоблюдение правил о весах, мерах и т.п., а затем – с нарушением чужого имущества. Такое положение вещей породило теорию легального перечня наказуемых обманов, суть которой сводилась к тому, что наказуем не всякий обман, а лишь некоторые случаи его, специально указанные в законе [3]. Например, появление в римском праве наказуемого мошенничества (stellionatus) было связано с развитием ипотечных отношений, где наказуемым признавался заклад чужого имущества или своего нескольким лицам порознь. Собственно говоря, stellionatus и стал зародышем имущественных обманов, где огромное значение для уголовноправовой оценки деяния получил способ деятельности виновного лица. Такого же рода подход можно было наблюдать в Каролине (XVI в.), где не проводилось разграничение между обманом и подлогом. Из определений данного законодательного акта о подделке монеты, о подлоге публичных документов, о перенесении межевых знаков, о подделке мер, весов, товаров и о некоторых других равным образом нельзя извлечь никаких общих руководящих положений, которые бы объясняли суть обмана.
Мошенничество - это преступление цивилизованное, появляющееся в ряду наказуемых действий только при значительном развитии экономического оборота. Имущественные обманы не известны обществу с традиционной (натуральнообщинной формой хозяйствования) экономикой на ранней стадии его развития и остаются нетипичными для него даже на более поздних этапах его функционирования. Уголовно-правовые нормы об обманах в имущественной сфере - плод более развитого экономического состояния общества в сравнении с нормами о других имущественных преступлениях. Указанные посягательства появляются и получают распространение по мере развития договорных отношений, экономическую основу которых составляют глубокое общественное разделение труда, господство обмена и товарно-денежных отношений, развитие торговли и иных атрибутов товарного хозяйства [4, с. 9].
Первоначально административные (полицейские) предписания Х - XV вв., направленные на охрану имущества от обманов заключались во введении однообразного порядка в систему мер, весов и монеты, иногда во введении такс, надзоре за осуществляемой торговлей и т.д. Например, в дополнительных статьях «Пространной редакции Русской Правды» «О человеце» сказано: «Аже чоловек полгав куны у людей, а побежить в чужую землю, веры ему не иняти, аки и татю». В комментарии к данной статье отмечалось, что человек, обманом получивший деньги и пытающийся скрыться в другой земле (то есть по М.Ф. Владимирскому-Буданову, злостный банкрот), не может пользоваться доверием так же, как и вор.
Обман был связан с воровством. Так, в соответствии со ст. 58 Судебника 1550 г. говорилось: «А мошеннику та же казнь, что и татю. А кто на мошеннике взыщет (и) доведёт на него; будет (ино) у ищеи иск пропал, а обманщика как (ни) приведут, ино его бити кнутьем». Способом действия в данном случае был обман, который, скорее, состоял в том, что каждое частное лицо должно охранять свои интересы от обманов и винить самого себя за свою неосмотрительность [5]. Обман при таком мошенничестве состоял в облегче- нии совершения татьбы (кражи), то есть мошенничество было ловкой, но мелкой кражей. Такой же подход был сохранён и в Соборном уложении 1649 г., где под мошенничеством подразумевались завладение чужим имуществом посредством внезапного, порывистого отнятия имущества (например, шапки) и ловкая покража.
Следует сказать, что в этот период имущественные обманы как таковые выделялись отдельно от мошенничества в том строгом смысле слова, в котором мы его сегодня понимаем. Главным образом, противоправными признавались и наказывались обманы в долговых отношениях, торговые обманы в качестве и количестве продаваемых товаров, скоморошество, игра в карты, лодыги, шахматы, лжесвидетельство и ябедничество, обманы посредством подделки и разрезания монеты и др. Ничего нового в вопросе обмана при мошенничестве не содержал и Артикул воинский от 26 апреля 1715 г., стоявший на почве доктрины общегерманского права того времени.
Таким образом, на данном этапе развития применение уголовного закона было связано с наиболее тяжкими проявлениями мошеннической деятельности. Данная теория нормального благоразумия исходила из того, что во всяком обществе встречаются лживые уверения, до того вошедшие в обычай, что им никто не верит: «Продавец расхваливает свой товар, показывает его лицом, и покупатель также обязан блюсти свой интерес» [6]. Отсюда следовала ненаказуемость применяемых обычных обманных уловок и всех тех случаев, от которых можно уберечься при объективной житейской осмотри- тельности. В этой ситуации ответственность за обман наступала как за нарушение установленной обычаем обязанности быть правдивым в имущественных отношениях, и наказание назначалось в случае выхода за пределы дозволенной лживости. Необходимо также учитывать, что законодатель того времени не мог сразу просто так признать общие начала наказуемого обмана, так как этим шагом он открыл бы широкое поле для ябедничества и доносительства, которое было бы чрезвычайно опасно ввиду неокрепших ещё в судах разумных состязательных процессуальных принципов, да и ход исторического развития не позволял этого сделать. Можно сказать, что понятие обмана в мошенничестве было выработано самой судебной практикой. Так, в 1767 г., когда депутаты от всех мест России съехались в Петербург для составления уложения законов, некто Корольков, подделав пригласительные повестки, разносил их депутатам и собирал за это деньги. Сенат, рассматривая это дело, признал, что в данном случае отсутствует мошенничество, а имеет место лишь обман, и, приняв во внимание, что «на то, что за обман чинить, точных законов не имеется, а почитая обман равным мошенничеству, то за сие его, Королькова, преступление и за то, что он высшего правительства имя всуе употреблять отважился», приговорил Королькова к наказанию. То есть в данном случае Сенат посчитал, что мошенничество (ловкая кража) и имущественный обман по своим последствиям для гражданского общества одинаковы, и поэтому к ним следует применять одни и те же меры уголовной ответственности при отсутствии особых предписаний. Итак, с этой поры в истории русского уголовного права можно наблюдать две тенденции в вопросе признания обмана уголовнопреступным деянием: а) обман охватывается мошенничеством как общее понятие; б) в уголовном законодательстве присутствуют самостоятельные случаи обмана (не охватываются родовым понятием мошенничества) ввиду их исторического происхождения. Подтверждением тому может служить Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов», где устанавливались три вида корыстных имущественных преступлений: воровство-кража, воровство-мошенничество и воровство-грабёж. Как и ранее, мошенничество включало в себя: а) карманную кражу на торгах или в многолюдных собраниях; б) внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость деятеля, а не на испуг потерпевшего; в) завладение имуществом посредством обмана. Наряду с этим под влиянием доктрины немецкого уголовного права Устав Благочиния, или полицейский, от 8 апреля 1782 г. стал содержать весьма расплывчатые нормы о лживых поступках словесных и действием (ст. 270), о лживом употреблении поддельного или скрытого, об обманах в торговле и об обманах, рассчитанных на суеверие и невежество (ст. 270). Важное значение для формирования понятия мошенничества с позиций сегодняшнего дня имело также дело Мельниковой, которая была признана виновной в том, что под предлогом продажи (будущего обстоятельства) брала у разных лиц имущество и рас- трачивала его. Сенат, приняв во внимание, что «Мельникова, «забирая товары умышленно оные у себя, из единой корысти, а прочим во вред, удерживала и ничем более, живучи здесь (в С.Петербурге), не промышляет, как ходя по дворам и забирая вещи хозяев обманывает», приговорил её к работам на фабриках. Таким образом, обманное выманивание имущества посредством обольщения будущим обстоятельством и присвоение его отличалось от мошенничества и рассматривалось как растрата [7].
Постепенно теория нормального благоразумия подменяется теорией индивидуального благоразумия, или обязательной личной осмотрительности. Суть последней сводится к тому, что обман следует связывать с личностью самого обманутого, а не с нравами и обычаями среды, где обман происходил. Иначе обман, от которого можно было бы уберечься при обычной для потерпевшего осмотрительности, не должен быть наказуем [8]. Эта теория была предложена немецким учёным-юристом Генером, который полагал, что требование уголовного наказания за мошенничество, то есть когда обманутое лицо терпит ущерб вследствие своей доверчивости и небрежности к собственным интересам, может быть объяснено лишь смешением начал уголовного права и морали. В основание данной теории были положены даже известные формулы древнеримского права: «Законы служат тем, кто бодрствует, а не дремлет»; «Право пишется лишь для бдящих, заботящихся о своих интересах». Отсюда и делался вывод о том, что лицо, которое введено в заблуждение при каких бы то ни было условиях, явно «дремлет», оно не может рассчитывать на уголовно-правовую охрану своих обманутых интересов [9].
В германском праве к концу XVIII – началу XIX вв. было выработано весьма широкое понятие наказуемого обмана, объединявшего нормы о подлоге и всяком другом обмане, посягающем на чьи-либо права. Обманом признавалось нанесение имущественного ущерба посредством умышленного введения в заблуждение [10, c. 76]. Объектом этого преступления было предложено считать «право на истину», а предметом - имущественные права. Важной особенностью имущественного обмана также следует признать смещение корыстной цели в сторону получения виновным имущественной выгоды. При обмане деятельность лица была связана с введением в заблуждение потерпевшего, причём обманщик должен был сам ввести лицо в заблуждение или, по крайней мере, укрепить его в нём. Имущественный ущерб также являлся неотъемлемым признаком наказуемого обмана, однако не всегда и не везде. Национальные законодательства постепенно начинают отказываться от бессодержательного понятия наказуемого обмана в смысле лживого поступка, так как несоблюдение нравственного веления быть правдивым и говорить только правду наказуемо не само по себе, а лишь постольку, поскольку оно служит средством нарушения благ, стоящих под юридической охраной. Французский уголовный кодекс 1810 г. устанавливал ответственность за мошенничество для того, кто выманит или попытается выманить все или часть имущества другого, побудив последнего путём обманных уловок к передаче или выдаче денег, движимого имущества или разного рода документов имущественного характера. В английском праве мошенничество возникло из понятия воровства и связано было с ненаказуемыми действиями лица, приобретшего право собственности путём обмана. В такой ситуации неправомерное приобретение права собственности не признавалось преступлением ввиду оспоримости сделки, вследствие чего и было введено понятие мошенничества [10, с. 78].
Таким образом, исторический опыт развития и становления системы уголовного законодательства показывает, что представления об уголовно-правовом понятии мошенничества неоднократно менялись, образовав ряд научнотеоретических и практических проблем. Первое упоминание о мошенничестве в законодательстве большинство учёных относит к 1550 году. Именно тогда Судебник Ивана Грозного в ст. 58 закрепляет следующую норму: «А мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем». Как видно, законодатель лишь использует понятие «мошенничество», не обозначая его как дефиницию. В дальнейшем ответственность за мошенничество была установлена Соборным уложением 1649 года. Но ст. 11 гл. XXI этого законодательного акта лишь повторяет положение Судебника, устанавливая ответственность за мошенничество: «Да мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу (бить кнутом, отрезать левое ухо и посадить в тюрьму на два года)». Воинские артикулы Петра I вообще не содержали понятия мошенничества. При этом хищения, совершённые путём обмана, квалифицировались как кража. Впервые законодательное определение мошенничества было сформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 1771 г. «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях». Согласно п. 5 данного Указа, «воровство мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что отъимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или купя не платя денег, скроется, или обманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее, без воли, без согласия того, чье оно».
Несомненная ценность данного определения состоит в том, что в нём упоминается, хотя и в качестве альтернативного, такой сущностный признак мошенничества, как обман [11]. Но несмотря на то, что эта конструкция послужила существенным подспорьем в квалификации мошенничества как преступления, данная дефиниция была ещё далека от идеальной. Далее сначала в т. XV Свода законов Российской империи, а затем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое после издания также было включено в т. XV Свода законов Российской империи, заменив Свод законов уголовных, законодатель достаточно подробно регулирует состав мошенничества как вид преступного посягательства против собственности. Уложение 1845 г. примечательно не только тем, что закрепляет принципиально новую дефиницию мошенничества, но и законодательной систематизацией самого мошенничества. Примечательно также и то, что в вышеуказанном нормативном акте предусматривалась ответственность за неоднократное совершение мошенничества.
Принятое в 1885 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, являясь улучшенным вариантом Уложения 1845 г., также относит мошенничество к формам хищения, что подтверждается положениями ст. 1626. Важным шагом в разработке легального понятия «мошенничество» в дореволюционном законодательстве явилось принятие Уголовного уложения 1903 года.
Нормы о мошенничестве содержались в гл. 33, именуемой «Мошенничество». Эта глава включала 8 статей (ст. 591 – 598). При этом круг деяний такого рода был существенно расширен, и выделялись многие виды мошенничества.
Среди прочих достоинств данного нормативного акта следует также выделить включение в предмет мошенничества недвижимого имущества [14].
Коренные изменения произошли в развитии понятия мошенничества после Октябрьской революции 1917г., «которая нарушила эволюционное развитие капиталистических отношений в России». При этом ни о какой «рецепции дореволюционного права, ни о какой преемственности права не могло быть и речи». Эта проблема была снята с принятием первого
Уголовного кодекса РСФСР 1922 года. Так, в ст. 187 указанного нормативного акта определялось: «Мошенничество, то есть получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана, карается принудительными работами на срок до шести месяцев или лишением свободы на шесть месяцев». При этом законодатель даёт определение обмана, под которым понимает сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно, выделяя тем самым активный и пассивный обман. Недостатком УК РСФСР 1922 г. является то, что в нём отсутствовали квалифицирующие признаки. С другой стороны, данный нормативный акт впервые провёл характерные различия между посягательствами на личную и государственную собственность. В дальнейшем с принятием УК РСФСР 1926 г. определение мошенничества претерпело некоторые изменения. Так, ст. 169 УК РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как «злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод». Следующим очень важным этапом в развитии уголовно-правового понятия мошенничества явилось принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. В отличие от УК 1926 г., УК РСФСР 1960 г. выделял два вида мошенничества [2]: за- владение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 147). Далее, в связи с политическими и экономическими переменами, происходящими в России, начавшимися в 1985 г., возникла необходимость внесения в действующее гражданское и уголовное законодательство изменений, соответствующих новым условиям. В 1990 г. принимаются законы «О собственности в РСФСР» и «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
24 мая 1996 г. Государственной Думой был принят новый Уголовный кодекс (далее – УК 1996 г.), вступивший в действие 1 января 1997 г. и функционирующий по настоящее время [1]. Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» открывает гл. 21 «Преступления против собственности», в которой предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ).
При этом Уголовный кодекс РФ 1996 г., поддержав основную идею относительно сути мошенничества, вместе с тем изменил определение понятия этого преступления, особо подчеркнув, что мошенничество – это хищение (а не завладение, как это отмечалось в УК РСФСР 1960 г.) чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Список литературы Историко-правовой анализ понятия «мошенничество»
- Уголовный кодекс Российской Федерации"от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Уголовный кодекс РСФСР//Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
- Безверхов, А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве/А. Безверхов//Уголовное право. 2001. № 4.
- Безверхов, А. Г. Экономические преступления и уголовный закон/А. Г. Безверхов//www.tisbi.ru/science/vestnik/2001.
- Борзенков, Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации)/Г. Н. Борзенков -М., 1971.
- Владимиров, В. А. Квалификация похищений личного имущества/В. А. Владимиров. -М., 1974.
- Громов, Н. А. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Н. А. Громов. -М.: ГроссМедиа, 2007.
- Елисеев, С. А. Преступления против собственности по российскому законодательству/С. А. Елисеев//Сибирский юридический вестник. 2002. № 2. С. 23.
- Елисеев, С. А. Преступления против собственности по Уголовному уложению 1903 г. / С. А. Елисеев // Сибирский юридический вестник. 2001. № 4 // http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/index.html.
- Клепицкий, И. А. Собственность и имущество в уголовном праве/И. А. Клепицкий//Государство и право. 1997. № 5.
- Кочои, С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности/С. М. Кочои. -М., 2000.
- Матышевский, П. С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР/П. С. Матышевский. -Киев, 1972.
- Фойницкий, И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в юридический факультет Императорского Петербургского университета для получения степени магистра права/И. Я. Фойницкий. -СПб., 1871.
- Фойницкий, И. Я. Посягательства личные и имущественные. -7-е изд., доп. и пересмотр./И. Я. Фойницкий. -Петроград, 1916.
- Хилюта, В. В. Мошенничество в историко-правовом аспекте/В. В. Хилюта//Вестник ТИСБИ. 2008. № 2.