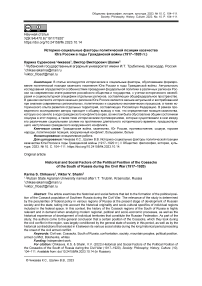Историко-социальные факторы политической позиции казачества юга России в годы гражданской войны (1917-1920 гг.)
Автор: Чикаева К.С., Шалин В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются исторические и социальные факторы, обусловившие формирование политической позиции казачьего населения Юга России в годы Гражданской войны. Актуальность исследования определяется особенностями проведения федеральной политики в различных регионах России на современном этапе развития российского общества и государства, с учетом исторического своеобразия и социокультурной специфики отдельных регионов, составляющих общефедеральное пространство. В данном контексте история казачьих регионов Юга России является весьма актуальной и востребованной при анализе современных региональных, политических и социально-экономических процессов, а также исторического опыта развития отдельных территорий, составляющих Российскую Федерацию. В рамках проведенного исследования авторы приходят к общему выводу о том, что определенная позиция казачества, которую оно заняло в ходе гражданского конфликта в крае, во многом была обусловлена общим состоянием социума в этот период, а также теми историческими противоречиями, которые существовали в нем между его различными социальными слоями на протяжении длительного исторического времени, предшествующего наступлению гражданского вооруженного конфликта.
Гражданская война, казачество, юг России, противостояние, социум, горские народы, политическая позиция, вооруженный конфликт, большевики, белые
Короткий адрес: https://sciup.org/149143437
IDR: 149143437 | УДК: 94(470.6)“1917/1920” | DOI: 10.24158/fik.2023.10.14
Текст научной статьи Историко-социальные факторы политической позиции казачества юга России в годы гражданской войны (1917-1920 гг.)
На протяжении всей истории Юг России играл значительную роль в тех процессах, которые происходили на территории Российского государства. В годы Гражданской войны его роль, по сути, являлась определяющей в гражданском вооруженном конфликте и именно от его позиции и, в частности, от позиции казачества, проживающего на его территории, во многом зависел успех антибольшевистских сил. В соответствии с этим актуальность исследования определяется особенностями проведения федеральной политики в различных регионах России на современном этапе развития российского общества и государства, с учетом исторического своеобразия и социокультурной специфики отдельных регионов, составляющих общефедеральное пространство. В данном контексте история казачьих регионов Юга России является весьма актуальной и востребованной при анализе современных региональных, политических и социально-экономических процессов, а также исторического опыта развития отдельных территорий, составляющих Российскую Федерацию.
В современный период наблюдается возрождение казачества как особого военизированного социального слоя российского общества. Исходя из этого, представляется необходимым в рамках данного исследования определить вклад различных авторов в рассматриваемую научную проблему. В целом, на наш взгляд, историографию по данному вопросу можно разделить на два больших периода: советский и постсоветский. В советский период деятельность казачества в период Гражданской войны рассматривалась нередко с ярко выраженных идеологических позиций. И авторами большинства научных работ по избранной тематике были, как правило, не столько ученые-историки, сколько разнообразные общественные деятели: литераторы, партийные работники, военные и т. д.1 Значительный интерес среди научных трудов данного периода занимают работы участников белого движения, нашедшие отражение как в ряде сборников, так и в собственной мемуарной литературе2. В период так называемой перестройки и гласности вышел в свет ряд работ, которые существенно отличались от традиционного советского идеологического взгляда на историю социально-политической деятельности казачества в период Гражданской войны. В этот период были изданы многочисленные публикации российских эмигрантов, зарубежных историков и советских ученых «новой волны»3, которые опубликовали большое количество разноплановых работ, посвященных событиям Первой мировой и Гражданской войны и, в частности, положению казачества в данный период. К российскому периоду в историографии проблемы относятся, к примеру, работы А.Ю. Соклакова, А.Е. Мохова и др.4 Также в этот период вышло в свет большое количество диссертационных исследований, посвященных избранной теме5. Все эти исследования как советского, так и постсоветского периода историографии, безусловно, внесли определенный научный вклад в ее разработку. Однако за пределами данных исследований и публикаций оставалась тема влияния историко-социальных факторов на политическую позицию казачества Юга России в годы Гражданской войны во всей ее исторической целостности и многообразии. В какой-то мере исправить данную ситуацию и призвана предлагаемая авторами статья.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на основе научного материала показаны социальные истоки общественно-политической позиции казачества в годы Гражданской войны на Юге России. Авторы не только рассмотрели социальную подоплеку происходивших в этот период на Юге России событий, но и проследили взаимосвязь между этническими, конфессиональными, социокультурными условиями существования казачьего населения на Юге России и его политической позиции в годы гражданского вооруженного конфликта. Они впервые обосновали, что только с учетом всей совокупности данных факторов необходимо оценивать действия казачьего населения в ходе Гражданской войны на Юге России.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты можно широко использовать для написания учебных и методических пособий для высшей школы, в преподавании регионального компонента предметов «Отечественная история», «История Кубани» и т. д. В качестве российского Юга авторы определяют составляющие его отдельные регионы проживания казачьего населения, а также территории проживания горцев Кавказа, такие как: область Войска Донского, Кубанская область, Терек, Ставрополье, районы проживания горских народов Кавказа.
Гражданское противостояние на Юге России между различными социальными и политическими силами, а также военно-политическими лагерями, началось значительно позже, чем в центральных регионах бывшей империи. Население, проживавшее здесь долгое время, находилось в состоянии общественно-политической дезориентации: старая власть в центре страны рухнула, а возникновение новой вызывало у местного населения множество вопросов. О социально-политической позиции пришедших к власти в столицах большевиков на Юге мало что знали, и первоначально оценки их действий в качестве новой государственной власти были весьма противоречивы и непоследовательны. Нельзя также сказать, что основная масса казачества Юга России на тот момент была настроена резко контрреволюционно, скорее, у казаков в этот период преобладало определенное недоверие к новой власти, совмещенное с некоторым удивлением от тех шагов, которые она первоначально предпринимала. Но резкого неприятия ее самой и ее действий на Юге России в среде казачества не прослеживалось, как впрочем, и масштабной поддержки со стороны других социальных групп южно-российского социума.
Исходя из этого, позиция населения Юга России в целом была скорее нейтральной, с оттенком определенного недоверия к новым властям и институтам нарождающегося большевистского государства, и лишь постепенно она превратилась в нечто более определенное по отношению к общественно-политическим изменениям, происходившим в центре страны. В определении политической позиции различных слоев южно-российского социума, на наш взгляд, значительное место занимали социальные причины, которые позднее и сформировали вполне уже определенное отношение к новой государственной власти со стороны различных слоев местного населения. То есть социальные факторы в конечном итоге и являлись определяющими, именно они обуславливали принятие или отрицание происходящих революционных перемен тем или иным общественным слоем населения Юга России в период Гражданской войны, развернувшейся практически на всей территории бывшей Российской империи.
Необходимо также отметить, что важную роль в контексте происходивших в регионе событий имел демографический фактор. Так, к началу революционных перемен казачество уже не составляло на Юге России наиболее многочисленную группу населения. Различные переселенческие волны из центральных губерний страны на российский Юг коренным образом изменили социально-демографическую ситуацию в данном регионе уже к началу ХХ в. Казачество, которое на протяжении предшествующих периодов его истории играло главенствующую роль, постепенно утрачивало свои доминирующие позиции, все больше отдавая приоритеты другим группам населения, набравшим силу на Юге России к началу ХХ столетия: южно-российскому крестьянству и так называемым иногородним, которые вместе уже к тому времени составляли в южнороссийских регионах большинство из проживающего там населения. Казачество постепенно превращалось в социальное меньшинство на полностью контролируемых им ранее территориях. Так, например, «к началу Первой мировой войны казачье население насчитывало 38,6 % из общего количества проживающих в области войска Донского. Иногородние к тому времени составляли 29,0 %, а крестьянское население области – 23,5 %. В Кубанской области иногородние составляли 39,0 % населения, коренные крестьяне – 13,3 %, что опять же в совокупности превышало казачье население, которое в этот период уже составляло 45,8 %» (Козлов, 1977: 32). Еще более ярко данная тенденция проявлялась в Терской области Юга России. Здесь самой большой социальной группой было крестьянство, «составлявшее 53,1 % от общего числа жителей. Иногородних в общей социальной структуре области было 25,9 %, а само казачество насчитывало всего лишь 20,2 % жителей Терского края» (Козлов, 1977: 32).
В этой связи изменения в демографии южно-российского края приводили к постепенному изменению общественно-политического положения социальных групп региона. Естественно, что иногороднее и коренное южно-российское крестьянство постепенно ощущали возрастание своей значимости в структуре регионального социума и начинали претендовать на более значительный кусок общественного пирога. Они стремились к более справедливому распределению материальных благ в рамках регионального социума и настаивали на возрастании своей роли в хозяйственно-экономической, общественно-политической и даже социокультурной, духовно-религиозной сферах региональной жизни. Как верно отмечает Н.Ю. Беликова, «под влиянием модернизационных процессов в начале ХХ века религиозная ситуация на юге России стала меняться» (Беликова, 2013: 37).
Данный подход, как можно заключить, совершенно не устраивал казачество, которое стремилось любой ценой и любыми путями сохранить собственное преобладающее положение в регионально-социальной структуре, на основании своей роли в освоении и заселении данного края в период его присоединения к Российской империи. Оно все еще прочно держалось за прежние, еще сословные, привилегии, которые были у него, начиная с периода Кавказских войн, периода заселения и освоения края. Однако постепенно изменяющаяся общественная и политико-административная реальность делала вопрос их сохранения все более проблематичным. Как отмечает А.А. Семенов, «казачество в данный отрезок исторического времени постепенно утрачивает доминирующее положение в структуре северокавказского общества, происходит снижение его значения как в количественном соотношении с иными группами переселенцев…, так и в сфере влияния казачьего населения на административно-институциональную систему»1. Тем не менее, делиться своими социальными преференциями казачество Юга России, разумеется, ни с кем не собиралось, как и уступать власть большинству неказачьего населения на местах.
Положение усугублялось резкой имущественной дифференциацией регионального социума. Так, основная масса земельных угодий находилась со времен освоения и заселения края в руках дворянства и зажиточного казачества (при этом следует учитывать, что данные социальные страты в северокавказском социуме нередко совпадали, поскольку значительная часть казачьей верхушки дослуживалась до дворянского звания), которое продолжало удерживать имеющиеся у него земельные ресурсы, несмотря на снижение своего численного состава в региональном социуме. Так, например, казачество контролировало «на Тереке – 60,0 % угодий, пригодных для пахотного земледелия, на Кубани – 78,0 %, на Дону – 80,2 %»2 и это несмотря на то, что казачество уже составляло демографическое меньшинство в этих южно-российских областях. Большинство же иногородних были арендаторами и, соответственно, их уровень жизни был значительно ниже, чем в казачьей среде.
Неудивительно, что в период Гражданской войны начался процесс перераспределения земельных ресурсов, и по итогам гражданского противостояния казачество утратило саму возможность распоряжаться ими. Данные земли перешли к другим социальным группам южно-российского населения, например, горцам и др. Большинство же казачьих земельных угодий было обобществлено в рамках социально-экономических экспериментов, которые на Юге России осуществляла большевистская власть. Они были переданы коллективным хозяйствам (колхозам) и совхозам. Уже в период Гражданской войны на территории региона стали возникать разнообразные коммуны, в которых практиковалось обобществление в земельных наделах, ранее принадлежавших в основном казачеству, и развитие на них различных форм коллективного труда в рамках социальных экспериментов, начатых советской властью.
Помимо социально-экономических причин, которые раскалывали южно-российский социум в период Гражданской войны, имели место и причины социально-этнического характера. Так, например, при анализе событий, происходящих на Юге России в период Гражданской войны, нельзя не учитывать и давние межэтнические противоречия между казачьим населением и горцами, которые во многих отношениях считали себя пострадавшей стороной в ходе процесса освоения и заселения края, а также его присоединения к Российской империи в XVIII – XIX вв. Многие горские сообщества, сохранившиеся после эпохи длительной кавказской войны, проходившей на Юге России в XVIII – XIX вв., считали себя ущемленными в имущественных и социальных правах и также претендовали на значительную часть земельных ресурсов, находившихся в руках казачества.
Кроме того, горцы также считали себя обделенными в социально-политическом плане, поскольку, по их мнению, вся власть в северокавказских областях принадлежала казачеству и назначенным сюда ставленникам российского государства – представителям центральных российских властей. С начала ХХ в. также усилилось их стремление к поиску собственной национальной и религиозной идентичности, и они различными путями пытались сохранить свою религиозную, этническую и социокультурную автономию от проживавшего здесь российского населения, а также социально-политическую автономию в рамках Российской имперской государственности. Все это усиливало этносоциальное напряжение между казаками и горцами: последние стремились к определенному пересмотру всей системы общественно-политических и хозяйственно-экономических связей в регионе, к усилению собственной роли в региональных процессах, а также к перераспределению земельных угодий в крае в свою пользу.
Естественно, что данное социальное напряжение между казаками и горцами также в значительной мере влияло на политическую позицию казачества в период гражданского вооруженного конфликта 1917–1920 гг., а конфликты между ними в ходе военно-политического противостояния в регионе в данный период создавали очень сложные условия, которые непосредственно влияли на характер вооруженной борьбы казачества против центрального большевистского правительства1. Большинство же иногородних и крестьян в этот период в значительной мере симпатизировало горцам и видело в них естественных союзников в борьбе за социальное переустройство региона2.
Исходя из этого, гражданское противостояние на Юге России в значительной степени отличалось от того, что наблюдается в центре страны и большинстве других периферийных регионов. Основные разделительные линии между различными социальными группами на Юге России проходили не по линии классового противостояния имущих и малоимущих, а по линии социокультурного разрыва между различными социокультурными сообществами края – между казачеством и крестьянством, казачеством и иногородними, казаками и горцами (Харламов, 1995: 144). Таким образом, классовые противоречия в крае уступали место социокультурным, этнокультурным, национально-конфессиональным и другим. Как справедливо отмечал В. Трофимов, «даже самый беднейший казак в казачьем сообществе осознавал свою принадлежность к казачьей общине, свою инаковость и отличность от иногороднего, крестьянина или горца» (Трофимов, 1990: 133). Разумеется, хозяйственно-экономические противоречия были и в среде самого казачества, но все же на Юге России они в большинстве случаев уступали место социокультурным и этнокультурным разделительным факторам, которые подпитывались «существенными различиями в социально-экономическом положении казаков и остального населения южно-российского края»3.
По сути, гражданский вопрос в Южно-Российском крае стоял на мертвой точке. Так, победа казаков означала порабощение иногородних, а победа иногородних – порабощение казаков, при этом ни та, ни другая сторона не могли поступиться принципами и уступить друг другу. Иногородние также отрицательно относились к казачеству, испытывая к нему определенную социальную неприязнь. Даже состоятельные люди из числа иногородних, крестьян или горцев не желали сохранения монополии казачества в регионе на власть и выступали за более справедливое распределение ресурсов. Неприязнь к казачеству у этих слоев населения была ярко выражена и представляла собой имеющиеся классовые и имущественные противоречия внутри данных социальных групп. Поэтому, по своей сути, в период Гражданской войны казачество сражалось за сохранение традиционного порядка вещей, а позже, после фактической его ликвидации, – за возврат своих прав на землю и имущество.
Нет нужды указывать на то, что особую роль в эскалации гражданского конфликта на Юге России сыграли те методы, которые использовали все стороны в рамках развернувшегося в крае гражданского противостояния. Это, прежде всего, насилие и стремление к подавлению других социальных и общественных слоев, отличающихся в социальном, культурном и этническом плане. Исходя из этого, насилие виделось как универсальный способ разрешения многих социальных, культурных и хозяйственно-экономических противоречий, возникших в регионе в предшествующие исторические периоды.
Именно эти факторы в определяющей степени повлияли на выработку политической позиции казачества Юга России в период Гражданской войны. Казачество в этот период вполне ясно осознавало, что революционные изменения в центре страны не приведут для данного социального слоя ни к чему позитивному. Новая большевистская власть не в состоянии была дать казачеству Юга России больше того, что дала ему прежняя имперская государственность. В дальнейшем движении российского общества по революционному пути казачество лишь видело опасность для собственного социально-экономического положения. Оно также сознавало опасность утраты этнокультурной автономии от остальной территории страны и стремилось сохранить собственную идентичность и существующее в регионе положение дел, устоявшийся традиционный порядок, поддерживаемый ранее имперским государством, и свою главенствующую роль в региональных общественно-политических процессах, в системе власти, в системе распределения социально-экономических благ.
Всему этому угрожала новая революционная власть, и если первоначально, после февраля 1917 г., а затем – после свержения Временного правительства, казачество не вполне понимало характер общественно-политических изменений, происходящих в стране, и политику нового большевистского руководства по отношению к нему, то впоследствии оно достаточно четко осознало все угрозы и опасности, которые несет для него новое положение дел и развивающаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в крае. В конечном счете, это определило переход большинства казачества на антибольшевистскую позицию, что вылилось в попытку построения самостоятельных «чисто казачьих» государственных образований на Юге России.
Большинство казачества вполне понимало позицию белого антибольшевистского движения на Юге России и в какой-то степени разделяло ее. Свержение большевистской власти в центре страны, прекращение социальных экспериментов и политического давления на казачий социум со стороны новых властей – все эти цели вполне разделяло большинство казачьего населения на Юге России. Однако политическая позиция самого казачества была вовсе не тождественна общественно-политической позиции белого движения. Белое движение видело российский Юг и казачьи области страны в качестве своей естественной консервативной базы, на которой «могло бы основываться белое дело»1. Именно в казачьих областях белые надеялись найти мощную военно-политическую поддержку со стороны большинства населения казачьих регионов, а дальше, используя широкую поддержку казачьего населения и превратив казачьи регионы Юга в базу белого движения, белые «надеялись нанести военное поражение большевистским армиям и освободить от большевиков всю территорию страны» (Kenez, 1980: 60). Генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, которые последовательно возглавляли белое движение на Юге России, рассчитывали на самую широкую поддержку казачества и на то, что им удастся использовать социально-экономические ресурсы и возможности южно-российского края «для нанесения окончательного поражения большевизму»2.
Но этим надеждам в том виде, на который рассчитывали руководители белого дела, не суждено было сбыться. Политическая позиция казачества в очень серьезной степени отличалась от позиции вооруженных сил на Юге России, бывшей основой белого движения в южно-российских регионах. Разумеется, казаки поддерживали свержение большевистской власти, готовы они были и участвовать в военных действиях против большевиков, особенно в тех регионах, которые издавна считались территорией проживания казаков. Обладая высокими профессиональными военными качествами, служилым менталитетом и привычкой к длительным военным действиям и испытаниям, казаки Юга России могли представлять собой достаточно грозную силу в руках опытных в военном деле белых генералов.
Однако казачество Юга России вовсе не стремилось до конца сражаться за торжество белого дела. По большому счету, значительная часть целей белого движения на Юге России была совершенно чужда большинству населения казачьего края, энтузиазм которого распространялся только в основном на те территории и регионы, где проживало собственное казачье население. И «воевать за полное восстановление Единой и Неделимой России казаки не собирались» (Lazarski, 1992: 691). В гражданском противостоянии, развернувшемся на Юге России в 1917–1920 гг., казаки преследовали собственные цели, которые отнюдь не совпадали с широкими национальными задачами антибольшевистского лагеря. Они сами собирались использовать белое движение, представленное в регионе вооруженными силами на Юге России генерала А.И. Деникина, в первую очередь для освобождения собственных казачьих территорий. Судьба остальной России казаков волновала значительно меньше. Вооруженная поддержка белых офицеров, приехавших на Юг и создавших здесь белую армию, в какой-то момент была им необходима, учитывая ожесточенный характер боевых действий в регионе. Но они не были подлинными сторонниками белого дела и борьбы до конца с большевизмом. Руководители казачества, да и большинство рядовых казаков, исходили из того, что им необходимо создать собственные «формы государственной власти на Юге России» 3, автономные государственные образования, состоящие в некой конфедеративной связи с остальными российскими территориями. Это должны были быть самоуправляющиеся области с внутренней политической автономией и широкими внешними связями, в значительной степени независимые от остальной территории страны. В данных государственных образованиях казачество должно было сохранить свое доминирующее положение, что в исторической перспективе снимало вопрос об объективном снижении его роли в жизни южно-российского социума в сравнении с иногородним населением, то есть это должны были быть чисто казачьи государственные образования, где будет сохраняться образ жизни казаков, основанный на системе определенных ценностей и государственно- правовых норм, «регулируемых самим казачеством»1. По сути, данные государственные образования должны были законсервировать сложившиеся в регионе с конца XIX в. социально-экономические отношения и сохранить казачеству тот исключительный статус в крае, которым оно пользовалось на протяжении столетий до широкого наплыва переселенцев в данный регион. Создание таких самостоятельных государственных образований, конечно, совершенно не соотносилось с идеями белого движения на Юге России, что в общем-то на заключительной стадии вооруженного противостояния в крае и привело к конфликту между его руководством и казачеством. Дон, Кубань и Терек – территории проживания горских народов, по мысли руководителей казачества, должны были стать самостоятельными государственными субъектами на конфедеративной основе. Причем сохранить данный проект казаки стремились даже тогда, когда союзникам по антибольшевистскому лагерю было нанесено решительное военное поражение. В этот момент они попытались выйти на переговоры с большевистским руководством, чтобы добиться этой цели уже без белых.
Оценивая в целом политическую позицию казачества на Юге России в годы Гражданской войны, вполне можно прийти к выводу о том, что, несмотря на неприятие большевистской власти, общественно-политических и социально-экономических экспериментов большевиков, нового устройства государственной жизни в России, основанного на идеологемах марксизма, казачество занимало политическую позицию, весьма существенно отличающуюся от других представителей антибольшевистского лагеря. Можно сказать, что в Гражданской войне южно-российское казачество придерживалось собственных целей и своего плана государственной и общественной жизни так, как его видели идеологи казачьего движения. В основе этой позиции находились идеи социальной исключительности казачества, его политической и государственной автономии, а также сохранения традиционных ценностей казачьего сообщества, его консервативных устоев и мировоззренческих ориентиров.
Такое различие в общественно-политических целях казаков и их союзников по антибольшевистскому лагерю, а также наличие других социально-политических платформ в нем, собственно, привело к краху белого дела на Юге России и не позволило союзникам одержать победу в Гражданской войне. При этом отношение казачества к большевикам вовсе не менялось в лучшую сторону, хотя казаки на каком-то этапе и попытались заключить с большевиками и другими противниками добровольческой белой армии (горцами) союз, который бы вывел их из сферы влияния белого движения Юга России. Но это вовсе не означало автоматического признания большевизма и прекращения борьбы с ним. Идеология марксизма, исповедуемая большевиками, была несовместимой с консервативными традиционными ценностями казачьего населения региона, а также идеями автономного самоуправляющегося казачьего сообщества. Все это и привело к продолжению борьбы казачества против большевизма, но уже в других формах.
Естественно, большинство казачества резко выступало против происходящих изменений. Оно хотело сохранения традиционных порядков, образа жизни и имеющихся у него, как у особой социальной группы в структуре российского общества, привилегий, но историческая истина состояла в том, что сохранить их в сложившихся условиях всеобщего революционного водоворота было невозможно. Времена традиционной имперской государственности, предусматривающие сословное деление общества и наличие особых привилегированных социальных слоев в рамках прежней структуры социума, канули в прошлое, а историческое время, как известно, нельзя повернуть вспять, и даже воинская доблесть и мужественная борьба за сохранение существующего порядка не могли привести к какому-либо успеху, поскольку изменилась сама историческая реальность, и наступало новое время, в котором прежним социальным практикам и образу жизни уже не было места.
Список литературы Историко-социальные факторы политической позиции казачества юга России в годы гражданской войны (1917-1920 гг.)
- Беликова Н.Ю. Влияние модернизационных процессов на религиозную жизнь общества в начале XX века (на материалах юга России) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2013. № 2 (174). С. 36-41. EDN: QAKHXN
- Козлов А.И. На историческом повороте. Ростов н/Д, 1977. 214 с.
- Трофимов В. Казачий вопрос // Дон. 1990. № 2. С. 133-141.
- Харламов В.А. Казачий депутат Государственной Думы (1906-1917). СПб., 1995. 160 c.
- Kenez P. The Ideology of the White Movement // Soviet Studies. 1980. Vol. 32, iss. 1. Pp. 58-83. DOI: 10.1080/09668138008411280
- Lazarski C. White Propaganda Efforts in South during the Russian Civil War, 1918-19 (The Alekseev-Denikin period) // The Slavonic and East European Review. 1992. Vol. 70, no. 4. Рp. 688-707.