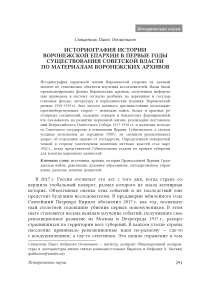Историография истории Воронежской епархии в первые годы существования советской власти по материалам Воронежских архивов
Автор: Овчинников Павел Андреевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 (70), 2016 года.
Бесплатный доступ
Историография церковной жизни Воронежской епархии на данный момент не становилась объектом изучения исследователей. Нами были проанализированы фонды Воронежских архивов, полученная информа- ция приведена в систему согласно разбивке на церковные и государ- ственные фонды, литературу и периодические издания. Воронежский регион 1918-1919 гг. был местом военного противостояния нескольких противоборствующих сторон - немецких войск, белых и красных ре- гулярных соединений, казацких отрядов и бандитских формирований, что сказывалось на развитии церковной жизни, реализации постановле- ний Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. и политике молодо- го Советского государства в отношении Церкви. Губисполком, а следом уездные исполкомы до середины 1920 г. не спешили реализовывать декрет об отделении церкви от государства. Определенной поворотной точкой в сторону ужесточения политики местных властей стал март 1922 г., когда представители Губисполкома ездили по храмам губернии для изъятия церковных ценностей
Источники, архивы, история православной церкви, гражданская война, революция, духовное образование, государственное управление, расколы, изъятие ценностей
Короткий адрес: https://sciup.org/140190223
IDR: 140190223
Текст научной статьи Историография истории Воронежской епархии в первые годы существования советской власти по материалам Воронежских архивов
что местная власть также принимала Октябрь по-разному и не всегда быстро.
При представлении материалов в данной статье мы придерживаемся принципа «от общего к частному»: сначала изучаем центральные органы управления губернией, затем — местные (городские, уездные, волостные).
-
i. Фонды Государственного архива воронежской области (далее — ГАво)
ГАВО первоначально образован как губернский архивный фонд. Это произошло 6 апреля 1919 г. вслед за подписанным В. И. Лениным декретом Совета народных комиссаров «О реорганизации и централизации архивного дела». Документы данного архива содержат богатый материал, проливающий свет на установление советских государственных структур на территории губернии, и документы о влиянии нового режима на церковные организации.
Церковные фонды
Духовная консистория (ГАВО. Ф. И-84) как административный орган при Преосвященном была упразднена в 1918 г. Поскольку правящий архиерей продолжал управлять епархией, духовная консистория фактически сохраняла свое существование, но в очень урезанном составе — 1‒2 человека. Отсутствие документов консистории после 1918 г. можно объяснить двумя возможными причинами: первая — отсутствие делопроизводства или невозможность его вести (сомнительно), вторая — целенаправленное уничтожение заинтересованными лицами ее документов (более вероятно). Отдельные документы церковной переписки и внутреннего делопроизводства мы можем почерпнуть из фонда более позднего комплектования — «Воронежского обновленческого митрополитан-ского управления» (ГАВО. Ф. Р-2565, состоит из 44 ед. хр.) и случайных отложений в государственных административных фондах. Согласно материалам фонда Р-2565 правящий архиерей в переписке с приходами или священнослужителями епархии получал копии и оригиналы документов, датированных концом 1910-х — началом 1920-х гг. Ввиду нехватки бумаги представители церковных организаций в некоторых случаях писали письма на старых церковных документах.
Государственные фонды
Иностранная интервенция и начавшаяся в 1917 г. Гражданская война вызвали большие изменения в русском обществе. В этих условиях советский государственный аппарат должен был приспосабливаться к чрезвычайно сложной обстановке. При сохранении общих принципов построения в этот период он имел характерные особенности своей организации и функционирования:
-
— был совершен переход к военным и полувоенным методам управления;
-
— наряду с обычными органами государственной власти образовывались чрезвычайные органы власти;
-
— развивалась и усиливалась система государственных органов, непосредственно связанных с осуществлением функции обороны страны;
-
— государственные органы, рассчитанные на управление в условиях товарных форма хозяйства, свертывались;
-
— управление централизовалось.
Вопросы обороны требовали решительных и оперативных мер, поэтому деятельность советских учреждений носила выраженный повелительный характер. Управление сосредотачивалось в узких по составу коллегиях. Основные кадры советских работников уходили на фронт, что вызывало кадровый голод в партийных организациях.
Центральный Комитет партии циркулярным письмом от 26 сентября 1919 г. губернским и уездным парторганизациям определил программу деятельности ревкомов1. В Положении ВЦИК от 24 октября 1919 г. ревкомы были квалифицированы по трем типам:
-
— в местностях, освобожденных от неприятеля;
-
— в прифронтовой зоне;
-
— в тылу.
Правами по организации ревкомов наделялись работники реввоенсоветов и политотделов фронтов и армий при участии местных органов советской власти. Ревкомы образовывались в составе 3‒5 человек. Таким образом, ревкомы стали первым систематически действующим советским органом управления на территории Воронежской губернии на протяжении всей Гражданской войны.
Поскольку территория Воронежской губернии с 1917-го по 1921 г. была территорией соприкосновения нескольких противоборствующий сторон, что затрудняло управление, здесь был образован Губернский военно-революционный комитет. Он был создан 25 октября 1919 г. приказом № 2 начальника Воронежского гарнизона С. М. Буденного2, а упразднен 26 января 1920 г. с избранием на VII губернском съезде Советов нового состава губисполкома РКП(б) (Ф. Р-10; состоит из 2534 ед. хр.). Действие законов военного времени продолжилось вплоть до 1921 г., поскольку в некоторых уездах действовали как банды, так и остатки белых и казачьих соединений (Богучарский уезд и сопряженные с ним).
Фонды чрезвычайных органов власти, создававшихся в Воронежской губернии как на территории, находящейся под оккупацией, представлены чрезвычайно мало: Воронежский губернский военно-революционный комитет (Р-1111, состоит из 31 ед. хр.); Бутурлиновский городской военно-революционный комитет (Ф. Р-166, состоит из 10 ед. хр.); уездные (Ф. 2468, 461, 504, 393, 683, 6, 66, 595, 738, 1698 — количество ед. хр. от 1 до 74) и волостные военно-революционные и революционные комитеты.
Во время работы на территории губернии экстренных органов управления — реввоенсоветов — существовали и обычные — например, губернский исполнительный комитет, который соотносил свою деятельность с решениями военного совета.
Губисполком являлся исполнительным органом Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов РКП(б) (далее — Советы), который был образован в Воронеже в конце 1917 г. Документы отдела управления Советов города (Ф. Р-4, состоят из 655 ед. хр.) не имеют систематической информации по истории храмов и православных общин изучаемого периода. Встречаются отдельные фрагментарные упоминания о концлагере в помещениях Митрофановского монастыря, об отдельных священнослужителях епархии и другие разрозненные сведения, которые не вносят четкой картины в историю епархии.
Отдел юстиции Воронежского губисполкома (Ф. Р-36, состоит из 385 ед. хр.) хоть и являлся подразделением исполнительного комитета, в его компетенции находились вопросы судебной системы — создание и работа народных судов, нотариат, народные следователи. Здесь отложились документы об отделении церкви от государства, описи имущества церквей Воронежской губернии3.
С первых месяцев существования советской власти руководство страны особое внимание обращало на развитие и постановку образования в стране. Мы знаем об этом не только из широко известного декрета об отделении школы от церкви, но и из других документов молодой Советской страны. Вследствие сказанного, без сомнения, внимания заслуживает работа Воронежского губернского отдела образования (Р-1 состоит из 4123 ед. хр.). Здесь обнаружены интереснейшие документы об открытии в Воронеже в конце 1921 г. по благословению воронежского преосвященного пастырских богословских курсов, которые в конце 1922 г. перешли в ведение обновленцев4.
Первые несколько лет отдел образования губернии смотрел на преподавательские кадры не придирчиво, что допускало преподавание на всех уровнях губернского просвещения как людей с духовным образованием, так и беспартийных. С 1920‒1921 гг. это было прекращено и начались чистки, которым подвергались люди, не желающие вступать в партию или имеющие родственные связи с контрреволюционным элементом. И все же ужесточение государственной позиции в отношении Русской Церкви и православных приходов не помешало открыть упоминавшиеся выше пастырские богословские курсы для подготовки священно- и церковнослужителей.
С начала 1921 г. губернская власть предпринимала активные меры по контролю над перемещением, прибытием и убытием населения. Для этого было разослано циркулярное письмо с требованием обязательного отчета о таковых лицах5.
Практически одновременно с появлением губернского отделения Советов с местонахождением в Воронеже началось образование и ряда уездных и волостных Советов. Их фонды представляют больший интерес в сравнении с губернским уровнем, так как раскрывают обстановку, в которой происходило строительство Советского государства на уровне волостей и уездов. Фонды губернского Совета сосредотачивают административную документацию, планы, отчеты и подобный документооборот, а вот фонды местных Советов более информативны, так как содержат первичные сведения, которые еще не прошли жернова административной машины6. Изучение документов волостей и уездов — более трудоемкое занятие, ввиду того что массив фондов и документов велик, но и материала по церковной истории можно найти несравнимо больше, чем при изучении одного центрального губернского фонда. Примером выявленных сведений из фондов уездных Советов может служить список священнослужителей Бобровской епархии7 и списки бежавших с белыми войсками священнослужителей и членов их семей по каждому уезду.
Фонд Воронежского горисполкома (Ф. Р-51), образованный 20‒24 июля 1918 г., состоит из 4468 ед. хр. В описаниях дел, данных в архивной описи, прямых упоминаний о событиях церковной истории нет. Документы позволяют взглянуть на организацию жизни города в период ожидания нападения врага.
В течение трех лет, с 1918-го по 1920 г., во время военных действий с территории губернии население бежало в разных направлениях. Некоторые присоединялись к отступающим белым и казачьим военным соединениям, а затем эвакуировалось за границу через Крым. Некоторые семьи перебирались на юг (в Одессу, Сочи и другие города) к проживающим там родственникам. Спасаясь от власти большевиков и революционной анархии, люди оставляли все имущество и спасались бегством.
Первые годы существования и установления советской власти у государства не было времени подсчитать количество эмигрировавших и распорядиться оставленным имуществом. В 1919 г. внимание на этот вопрос обратили. Первое законодательное решение было принято в конце 1919 г.8, и в течение первой половины 1920 г. выявили имена всех выбывших (сбежавших). Оставленное ими имущество было распределено: движимое — среди госучреждений, а недвижимое — в зависимости от функционала9. Опросы проводились в каждом уезде, и документы откладывались в уездных исполкомах и их административных отделах в виде списков беженцев. Оставшиеся родственники подвергались ограничениям в сфере избирательного права — их зачисляли в разряд «лиц, лишенных избирательных прав». Уездные советы в обязательном порядке вели учет таких элементов10. В дальнейшем многим их этих семей был приклеен ярлык «враги народа».
Духовенство не могло быть выбрано в представительские органы власти, а вот церковнослужители-псаломщики такого права лишены не были. Анализ документов одного из уездов показал, что среди выбранных лиц был один действующий псаломщик11.
В ходе выявления эмигрировавших власти обратили внимание и на нетрудовой элемент — на духовенство, бывших кулаков, руководителей, сотрудников царской полиции, уклонистов от трудовой деятельности и подобным им. В фондах всех уездных исполкомов откладываются дела с характерными названиями «Документы о регистрации паразитических элементов»12 и т. п.. Эти документы интересны и ценны в силу того, что свидетельствуют о том, как классовая большевистская ненависть толкала исполнителей на выявление имен этих «врагов» с параноидальной дотошностью, а основное внимание обращалось на духовенство и торговцев. Так, произвольно взятые документы Богучарского уезда позволили нам выявить имена 35 священно- и церковнослужителей13.
Уездные фонды Советов также сосредоточили в большом количестве договоры о передачи имущества религиозного назначения общинам верующих и описи церковного имущества. Работа с этими документами позволяет узнать имена настоятелей и приходского актива, список церковного имущества вплоть до занавесок и тарелок, не говоря уже о богослужебных сосудах и утвари. Можно выявить имена всего приходского актива вглубь советского периода на несколько десятилетий. С 1920 г. в губернии начинается активная работа по регулированию церковной жизни, по передаче церковного имущества (икон, богослужебных предметов) и по заключению договоров аренды. Во многих случаях допускались нарушения: заключался договор, но не была составлена опись имущества прихода или монастыря, или не был заключен договор, или количество копий для отсылки вышестоящим инстанциям было недостаточным. С 1920 г. на юридическую сторону вопроса было обращено особое внимание.
В апреле 1921 г. все волисполкомы губернии должны были заполнить анкету, состоящую из 40 вопросов. Предполагалось, что в ответах отразится выявленное отношение населения волости к реализации декрета об отделении церкви от государства. Все волисполкомы отнеслись к данной анкете без энтузиазм а и давали лишь формальные ответы
«Да», «Нет», «Данные не предоставлены сельсоветами». Даже на конкретный вопрос «Как относится население к проведению в жизнь декрета?» ответ не давался14. Такое равнодушное отношение к отчету говорит о том, что этот вопрос не волновал административные органы.
В Воронежской губернии с 1919-го по 1921 г. действовала сеть концентрационных лагерей или домов с похожим содержанием: два лагеря в Воронеже, по одному в Задонске, Калаче, Острогожске, Новохоперске, Россоши, этапный лагерь и эвакоприемник. О двух последних сведений практически нет. Отдельно существовали исправительные дома для под-ростков15. Можно предположить, что через их камеры также проходили священно- и церковнослужители. В Воронежских архивах информация есть только по двум тюрьмам — Борисоглебской (Ф. Р-2556, 2568) и Острогожской (Ф. Р-753), по другим данных нет.
В самом конце изучаемого периода государство, до того изъявшее все вклады в банках, записанные на счета приходов, обратилось к драгоценным металлам, хранящимся в храмах. Естественно, что драгоценности не лежали просто на хранении, а из них были изготовлены ризы и украшения на иконах (подвески в виде колец, цепей, браслетов, ожерелий и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом), богослужебные сосуды. Для представителей Церкви отдать некоторые предметы было невозможно, поэтому при реализации этого декрета в уездах случались вооруженные столкновения и сопротивления таким действиям. В документах каждого уисполкома и во-лисполкома отложились дела по изъятию церковных ценностей. А вот документы о волнениях и противостоянии изъятию сконцентрированы в фондах уездных милиций и ОГПУ.
После Октябрьской революции предпринимались попытки создания рабоче-крестьянской милиции взамен царских жандармов, но эти попытки не увенчались успехом, причиной чему была война и частичная оккупация Воронежской губернии. Только после окончательного изгнания из Воронежа и близлежащих территорий белых войск под командованием Шкуро Губисполком вернулся к этому вопросу16. Документы фондов милиции информативны в части изучения церковной истории. Милиция не только охраняла порядок во время проведения крестных ходов, выполняла распоряжения законодательной власти, вела учет убывшего и прибывающего духовенства, регистрировали местные религиозные организации, давала разрешение на проведение приходских собраний, но также сопровождала представителей местных Советов при изъятии ценностей из храмов, отправлялась к местам народных волнений. В исключительных случаях вызывались армейские соединения.
Документы ОГПУ в Воронежской губернии если и сохранились, то находятся на особом хранении и недоступны исследователям, а в доступной части содержат очень мало фактического материала.
-
ii. Фонды Государственного архива общественной и политической истории воронежской области (далее — ГАоПи во)
Архив начал формировался в декабре 1920 г. для сбора, изучения и хранения материалов по истории Октябрьской революции и коммунистической партии на территории Воронежской губернии, что объясняет партийную принадлежность документов, содержащихся в его фондах. Воронежский комитет по сохранению истории революции первоначально строился на энтузиазме его сотрудников, что объясняет невысокий уровень его работы. Они встречали затруднения с выделением помещения, финансированием и организационной поддержкой. В 1921 г. ис-тпарт входит в состав Воронежского губкома РКП(б) на правах отдела. Лишь только с 1926 г. меняется и профессионализм его работы.
В фондах этого архива мы находим гораздо меньше документов по истории воронежской Церкви, чем в ГАВО.
С 1929-го по 1939 г. сотрудники архива собирали сведения о событиях Гражданской войны и об установлении советской власти на территории губернии. Все обнаруженные воспоминания и собранные свидетельства отложились в фонде «Исторический партийный отдел» (Ф. 5). В силу значимости данного фонда мы опишем и его структуру. В первом разделе «Делопроизводство Воронежского губернского, Центрально-Черноземного и Воронежского областных истпартов» сосредоточены документы, характеризующие работу по формированию историко-партийной источниковой базы и ее научной разработке в 1920‒1939 гг. Описи систематизированы в хронологическом порядке. Второй раздел «Документы, воспоминания, рукописи, материалы научно-исследовательской работы истпартов по истории революционного движения, партийных организаций, социалистического строительства Черноземного региона России»17 включил все материалы, собранные специалистами за два десятилетия кропотливой работы. Фонд имеет географический и именной указатель, что облегчает работу с ним и позволяет предметно изучать регион. Изученные нами дела говорят о всестороннем рассмотрении респондентами местной истории, хотя и с налетом партийной ангажированности.
Начиная с 1918 г. иногда в уездах и непременно при губернском исполкоме функционирует агитационно-пропагандистский отдел, служебные обязанности одного из членов президиума обязательно включали руководство этим отделом18. Документы архива позволяют видеть его работу.
Деятельность данного отдела была довольно разнообразна и разностороння. В его задачу входила организация выездных лекций и создание подобных структур на уездном уровне. Отдел состоял из шести членов — трех партийных и трех беспартийных. Собирались в этом составе два раза в месяц. Методический материал рассылался в виде конспектов и брошюр. При губполитпросвете в Воронеже была создана библиотека диапозитивов, в которой значительное количество картинок представляли собой атеистическую пропаганду, выпускалась стенная газета «Безбожный рабочий» и рукописный журнал. В Воронеже демонстрировались кинокартинки «Комбриг Иванов» и «Старец Василий Грязнов». В деревне в основном получили распространение стенные газеты, в которых основной темой было разоблачение попов.
Важными для изучения являются сводки ОГПУ, представлявшиеся губернскому Совету дважды в месяц,19. Сводки содержат эпизодическую информацию о деятельности сектантов, о религиозных настроениях у населения, о деятельности священнослужителей и религиозных проявлениях на территории губернии (крестные ходы, обновления икон и др.)20. Здесь также можно ознакомиться с документами, освещающими изъятие церковных ценностей, происходившее с марта 1922 г.21
В целом документы ГАОПИ ВО подтверждают, что притеснений со стороны официальных государственных структур по отношению к приходам и ее служителям не было и даже более того — «на местах же ячейки сами заводят связь с попами, обращаясь за справками и устанавливая таковую и другими способами»22.
Список литературы Историография истории Воронежской епархии в первые годы существования советской власти по материалам Воронежских архивов
- ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748.
- ГАВО. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 91.
- ГАВО. Ф. Р-67. Оп. 1. Д. 57.
- ГАВО. Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 478.
- ГАВО. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 16.
- ГАВО. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 31.
- ГАВО. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 45.
- ГАВО. Ф. Р-503. Оп. 1. Д. 67.
- ГАВО. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 69.
- ГАВО. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 78.
- ГАВО. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 1.
- ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 3а.
- ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 4.
- ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 133.
- ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 607.
- ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1695.
- ГАОПИ ВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 434.
- ГАОПИ ВО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 98.
- ГАОПИ ВО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 201.
- ГАОПИ ВО. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 155.
- ГАОПИ ВО. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 160.
- Рылов В. Ю. Принудительный труд и концентрационные лагеря в Воронеже. 1919-1922 гг.//Из истории Воронежского края. Вып. 18. С. 233-248.
- Разиньков А. П. Из истории Воронежского истпарта//ВВА.2013-2014.Вып. 11-12. С. 255-263.
- Литвинова Т. Н. Из истории научно-справочной библиотеки Государственного архива Воронежской области//Воронежский вестник архивиста. 2004.№ 1. С. 151-152.
- Воронежский Вестник Церковного Единения. 1917. № 10, 13, 22-24, 26-29,31-39, 43-48; 1918. № 1-45.
- Из истории Воронежского края: указатель содержания//Из истории Воро-нежского края. 2013. Вып. 20. С. 312-347
- Багай Н. Ф. Ревкомы. М.: Политиздат, 1981. 175 с.
- Сергий (Петров), архиеп. История Воронежской епархии от ее учреждения до 1960-х годов. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края,2011. 644 с.
- История Воронежской губернии в период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917-1920 гг.): указатель литературы/под общ. ред. канд. ист.наук, доцента В. М. Фефелова. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное из-дательство, 1970. 191 с.
- Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии/под общ. ред. И. П. Тарадина; сост. И. К. Александров . Воронеж:Воронежская коммуна, 1927. 95 с.
- Путеводитель по архивным материалам по истории Октябрьской революции и гражданской войны ЦЧО/под общ. ред. А. А. Комарова. Воронеж: Изд-во«Коммуна», 1932. 178 с.
- Ронин С. Л. Комбеды Воронежской и Курской областей: материалы по истории комитетов бедноты. Воронеж: Облиздат, 1935. 375 с.
- Польский М., протоп. Новые мученики российские// Христианская Церковь. Т. 2. URL: htp://www.paraklit.org/eres/MP/Poljskiy.Novie_mucheniki_ Rossiyskie.t.2.htm (дата обращения: 05.06.2016)