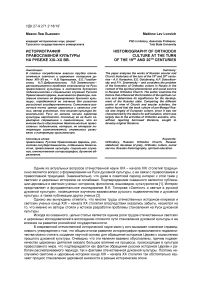Историография православной культуры на рубеже XIХ-ХХ вв
Автор: Махно Лев Львович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье посредством анализа трудов отечественных светских и церковных историков рубежа XIX-XX вв. - А.В. Карташева, Е.Е. Голубинского, А.П. Доброклонского, П.В. Знаменского - рассматривается проблема становления на Руси православной культуры в контексте духовного подвижничества и социального служения Русской Православной Церкви, выясняются факторы, оказавшие влияние на формирование духовной культуры, определяется ее значение для развития российской государственности. Сопоставив различные точки зрения церковных и светских ученых, автор установил, что книжная культура домонгольской Руси во многом носила характер культуры европейской, поскольку ей не было характерно стремление к самоизоляции, что во многом было обусловлено деятельностью православных подвижников, которые, не отвергая литературы заимствованной, стремились развивать и литературу
Короткий адрес: https://sciup.org/149134762
IDR: 149134762 | УДК: 27-9:271.2“18/19” | DOI: 10.24158/fik.2020.3.9
Текст научной статьи Историография православной культуры на рубеже XIХ-ХХ вв
Одним из актуальных вопросов отечественной науки XIX – начала XXI столетий традиционно является вопрос о формировании на Руси духовной культуры, о ее связи с православием и православной традицией. Знаменательно, что даже в советский период интерес к этой теме у светских и церковных историков не ослабевал. Подтверждением сказанного являются публикации церковных и светских ученых: историков, филологов, языковедов, культурологов [1]. Интерес представляет и фундаментальное исследование В.Н. Топорова «Святость и святые в русской духовной культуре», посвященное изучению взаимосвязи русского подвижничества и духовной культуры, а также публикации других ученых [2].
Однако мы вынуждены отметить, что многие труды отечественных историков-клириков и светских ученых конца XIX – начала XX столетия впоследствии оказались забыты, несмотря на то, что именно их авторы стояли у истоков разработки проблемы становления на Руси духовной культуры.
Исходя из сказанного, целью статьи является оценка роли трудов отечественных светских и церковных исследователей в воссоздании сложного пути становления духовной культуры и ее влияния на развитие российской государственности.
В современной отечественной исторической науке мало у кого вызывает сомнение справедливость утверждения о том, что общим итогом развития историографии православного подвижничества можно считать создание научной основы для обращения историков Церкви к осмыслению прошлого духовной культуры. Очевидно, что эти явления взаимно обусловлены, причем подвижничество церковных деятелей оказало большое влияние на процессы, происходящие в культуре православного мира, что подтверждается как фактом обращения русских историков Церкви к работам рассматриваемого периода, так и фактами отечественной духовной культуры. Поэтому неслучайно светские и церковные историки конца XIX – начала XX столетия так обстоятельно изучают процесс становления церковной книжности в разные исторические эпохи.
А.В. Карташев, оценивая исторический путь, пройденный Русской Церковью к концу XVIII в., отмечал существенный недостаток культурной жизни основной конфессии: «…Богослов-ская школа и новая православная литература на всем Востоке, но особенно характерно в России, не считались бесспорной церковной ценностью и не входили в сознание архиерейского и монашеского призвания и долга, даже в смысле простого честолюбия и показных заслуг в общественном мнении» [3, с. 543]. В этом высказывании А.В. Карташева отражены основные положения дискуссии, которая велась внутри сообщества церковных историков о месте и времени возникновения духовной культуры в истории господствующей конфессии и российского государства.
Е.Е. Голубинский впервые затрагивает вопрос состояния духовной культуры на Руси, исследуя домонгольский период. Свое внимание он акцентирует на проблеме перевода богослужебных книг и, изучив ее, приходит к заключению: «…В наших летописях нет ни единого слова об этом заимствовании нами у Болгар славянских богослужебных книг, как будто его совсем и не было» [4, с. 330]. Обстоятельно изучая процесс становления древнерусской книжности, Е.Е. Голубинский показывает домонгольскую Русь частью европейского мира. Свою точку зрения ученый обосновывает тем, что она, позаимствовав славянский богослужебный язык в болгарском варианте, сохранила некоторые латинские и немецкие слова. «Великость Константиновой заслуги не в азбуке и переводе, – писал историк, – а в мысли о последнем, в намерении сделать богослужение на их собственном языке, в учении о равноправности всех народов иметь богослужение на их собственных языках» [5, с. 339].
По мнению Е.Е. Голубинского, деятельность подвижников благочестия стала источником развития древнерусской книжности как переводной, так и оригинальной. Именно с этих позиций он оценивает приобретение митрополитом Кириллом III Кормчей книги из Болгарии. Историк писал: «...Мы имеем основания думать о митрополите Кирилле как о пастыре особенно ревностном. Эти основания даются нам сохранившимися до настоящего времени памятниками его пастырской деятельности, каковых памятников два – приобретенная им для России Кормчая книга с толкованиями канонов и деяния владимирского собора 1274-го года» [6, с. 62]. «Драгоценность» письменных источников, оставленных Святителем Кириллом, Е.Е. Голубинский видит в том, что «они представляют собою первые по времени из сохранившихся до нас письменных деяний поместных соборов нашей русской церкви» [7, с. 67].
Другим подтверждением влияния святых подвижников на культурное развитие средневековой Руси стало обращение автора «Истории Русской Церкви» к личности св. Стефана Пермского (вторая половина XIV в.). Представители церковно-исторической науки конца XIX в. уже неоднократно обращались к деяниям этого великого святого, отталкиваясь от его жития, составленного Епифанием Премудрым [8]. Однако Е.Е. Голубинский, с присущей ему тщательностью, разбирает все эпизоды жизни преп. Стефана, не доверяя в полной мере житийному источнику. Историк критично оценивает труд монаха Епифания: «Речи о св. Стефане должны быть начаты жалобой на то, что мы могли бы иметь очень хорошее житие, которое, в смысле биографии или в смысле исторического повествования, далеко не может быть признано за очень хорошее» [9, с. 262]. Поэтому жизнеописание Стефана, сделанное Е.Е. Голубинским, наполнено многочисленными вопросами. Главным из них является вопрос о том, когда Стефан решил стать просветителем зырян. Ученый предполагает, что Стефан выучился или, по крайней мере, начал учиться языку народа, стать просветителем которого принял намерение еще до отбытия из Устюга к избранному им месту пострижения [10, с. 265].
Давая блестящую характеристику создателю коми-зырянской азбуки, историк отмечает, что Стефан, зная греческий язык, был крупнейшим книжником России XIV в. и непрестанно занимался самообразованием, преследуя исключительно высокую цель: обращение в христианство языческого народа [11, с. 269, 271].
В отличие от П.В. Знаменского и М.В. Толстого, Е.Е. Голубинский сомневается в полной самостоятельности просветительской деятельности преподобного Стефана. В качестве гипотезы он высказывает мысль об инициировании этого мероприятия духовной властью в лице Святителя Алексия и неоднократно упоминает о поддержке действий подвижника великим князем Дмитрием Ивановичем Донским.
Осторожно подходит историк и к оценке успехов Стефана. Он пишет, что «его ожидал успех полный и сравнительно скорый, но не совершенно быстрый» [12, с. 280], а далее отмечает, что «апостольская деятельность св. Стефана среди зырян была чрезвычайно благоуспешна» [13, с. 287]. Е.Е. Голубинский первым старается восстановить хронологию событий. Началом миссионерской деятельности подвижника он считает 1378 или 1379 гг., отводя пять лет на обращение коми-зырян в христианство. Но в отличие от других авторов, Е.Е. Голубинский не утверждает, что дело Стефана Пермского увенчалось полным успехом. Он аргументировано приходит к выводу, что «принимать, чтобы св. Стефан успел совершенно очистить от кумиров весь крещенный им народ, нет сомнения, было бы преувеличенно, потому что это не бывает так скоро» [14, с. 292].
Для Е.Е. Голубинского вклад преподобного Стефана Пермского в древнерусскую духовную культуру очевиден, поскольку для него святитель Стефан – историческая личность, близкая по значению к преподобным Кириллу и Мефодию, просветителям словенским. К заслугам подвижника историк относит его писательские труды, переводы с греческого, составление сочинения «Мерило праведное».
Помимо святителя Стефана, Е.Е. Голубинский рассматривает вклад в духовную культуру и других деятелей Русской Церкви. Относя к числу «наших писателей» митрополита Киприана, ученый все же сомневается в достоверности сведений о составлении им «Степенной книги» и русской летописи от начала русской земли. «Чтобы человек имел охоту заниматься русской историей, – замечает Голубинский, – нужно было, чтобы он любил саму Россию; но Киприан был чуждый пришелец» [15, с. 350].
Для профессора Московской академии было ясно, что без церковных и монастырских библиотек не могло быть культуры средневековой Руси. Он допускает существование в домонгольский период при епископских кафедрах и в монастырях на юге страны библиотек четиих книг, при этом ему не ясно, сколько библиотек было истреблено монголами. Но развитие Русской Церкви в послемонгольский период связано исключительно с Северо-Востоком, поэтому историк заключает, что для «Руси Северной могли иметь значение только собственные библиотеки» [16 с. 128]. И таких библиотек было ограниченное количество, а первыми монастырями, озаботившимися создать «настоящие библиотеки четиих книг», были монастыри преп. Сергия Радонежского и преп. Кирилла Белозерского, а это уже было только в конце XIV – начале XV века.
Не обходит вниманием Е.Е. Голубинский и злободневный вопрос об уровне книжности или начитанности духовенства и паствы. Выделяя монашество как образованный класс, так как монахи имели свободный доступ к книгам, профессор Е.Е. Голубинский отмечает, что стремление к начитанности среди монахов было невелико. В отличие от монашества, белое духовенство было обязано быть начитанным и имело доступ к епископским библиотекам, однако остальное население, включая аристократию, забыло про книжность [17, с. 131].
Мнение ученого о том, что в киевский период нет оснований говорить о существовании духовной культуры, а в московский она стала формироваться только к XV–XVI вв., способствовало возникновению полемики вокруг вопроса о начитанности паствы в киевский (домонгольский) и московский (послемонгольский) периоды.
Так, А.П. Доброклонский полагал, что есть все основания говорить о существовании в киевский период начитанной паствы, а в последующий – северно-русской митрополии: «…у большинства грамотных не хватало времени и средств к самообучению и приобретению более широкой начитанности» [18, с. 532]. Также он отмечает односторонность и изолированность книжной культуры русских мирян и монахов: «…Наши книжники XIV–XVI вв. ограничиваются лишь книжной литературой (за исключением разве очень немногих лиц) и совершенно чуждаются наук светских» [19, с. 534–535].
Говоря о наличии в домонгольский период разнообразной переводной и оригинальной литературы, которая была по преимуществу духовного содержания [20, с. 165–166], ученый упоминает в качестве догматических писателей митрополитов Илариона и Леонтия. Нравоучительная литература, по мнению А.П. Доброклонского, в этот период представлена произведениями Луки Жидяты, Феодосия Печерского и Кирилла Туровского. Историческая литература – это жития святых и летописи, составлявшиеся монахами в обителях. Совершенно кратко историк упоминает о существовании и описательной литературы. Характеризует историк состояние литературы и в период 1237–1588 гг., снова выделяя переводную и оригинальную книжность: «При отсутствии научного образования в России оригинальными писателями здесь являлись только более или менее начитанные лица…» [21, с. 547].
Как на недостаток А.П. Доброклонский указывает на односторонность или церковность средневековой литературы, которая решала чисто практические задачи: «Письменные работы предпринимались в практических интересах церкви и ее членов, а отнюдь не из научных мотивов» [22, с. 547]. Усматривает он и другие недостатки: отсутствие самостоятельности и компилятивность; отсутствие критицизма по отношению к почерпнутому из книг материалу.
По мнению А.П. Доброклонского, уже в киевский период православная паства отличалась начитанностью, что было обусловлено распространением книг для чтения. Начитанность не была широкой, т. к. кругозор верующих был довольно узок. Их интересовали в основном вопросы веры, а значит, и начитанность носила духовный или церковный характер. Заметим, что А.П. Доб-роклонский является сторонником существования книжной культуры, которая была востребована и духовенством, и мирянами.
П.В. Знаменский также считает, что в киевский период были заметны проявления духовной культуры, которая питалась «живым религиозным чувством, свойственным юным христианам» [23, с. 48], и признавал преобладание переводной литературы. На первое место среди оригинальной письменности он ставил поучение Луки Жидяты, а потом уже творения Илариона, выделяя при этом сочинения преп. Кирилла Туровского, в словах которого «было мало общедоступной учительности и практического направления» [24, с. 49].
Особую оценку дает историку состоянию духовной культуры в XIII–XV вв. Признавая усиление влияния переводной литературы, привозимой из Византии, П.В. Знаменский высказывает свою точку зрения на состояние оригинальной книжности, находившейся на уровне «неопытного пера»: «Любимым родом оригинальной письменности были поучения и послания. Характер ее преимущественно обличительный. С умножением религиозных и практических вопросов у писателей начинает уже пропадать прежняя простота и непосредственность, являются, особенно в XV в., многоглаголивость, риторские замашки, хитросплетения речи» [25, с. 95].
Историк идет от тех памятников духовной литературы, которые дошли до XIX в. и о которых он имеет точное представление. Научная позиция Знаменского заключается в признании факта генезиса духовной культуры и ее постепенного становления в последующие периоды, одновременно с этим признавая на этот процесс сильное византийское влияние.
Более серьезный и обстоятельный анализ состояния духовной культуры в московский период мы видим в «Истории Русской Церкви» Е.Е. Голубинского, также отмечавшего тенденцию увеличения количества переводной литературы, которая, по сравнению с домонгольским периодом, стала «чрезвычайно богатой». Автора интересует не только переводная литература духовная, но и мирская, задумывается он и над вопросом о том, что она давала: «Вновь явившиеся переводы сочинений, принадлежавших к области наук нецерковных, мирских, слишком немного способствовали к изучению этих последних наук. Московская Русь в отношении книжной начитанности или получения средств для образования должна была повторить путь Киевской Руси» [26, с. 141].
Менее оптимистично Е.Е. Голубинский оценивает состояние собственной (оригинальной) письменности. К ней он относит церковные проповеди, в том числе пастырские послания многих митрополитов и немногих епископов. Ученый считает, что богословская или богословствующая мысль Русской Церкви «слишком мало работала, чтобы могли подниматься между ними какие-нибудь богословские вопросы» [27, с. 145]. Но появление ересей требовало создания обличительных сочинений. В отличие от П.В. Знаменского, московский академик не просто констатирует появление литературы обличительной по своему характеру, но и дает объяснение причин этого явления.
-
Е. Е. Голубинский подробно останавливается на разных жанрах и направления духовной литературы: нравоучительной, исторической, богословской, публицистической, реформационной. В развитии церковной книжности историк видит определенный прогресс, отмечая, что с середины XV в. до митрополита Макария написано уже пятнадцать житий, потому что русские книжники «приобрели дерзновение писать жития, не прибегая к помощи иностранцев» [28, с. 181].
Таким образом, русскими историками Церкви вопрос о месте духовной культуры и времени ее возникновения решался неоднозначно, но доминирующим стал подход, обосновывающий появление церковной культуры в виде переводной и оригинальной литературы в X-XII вв. А.В. Карташев, как один из поздних авторов, все же признал за естественный исторический факт, что в домонгольский период у нас произошло «водворение настоящего греческого просвещения» [29, с. 262].
Рассмотрение историографии проблем духовного подвижничества и духовной культуры как направления социального служения РПЦ позволяет сделать следующие выводы.
-
1. Трубачев О.Н. В поисках единства. Мысли по случаю тысячелетия русской культуры // Прометей : Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 6–30; Иннокентий Просвирнин, архиманд. Тысячелетие русской
книжности // Там же. С. 31–40; Горский А.А. «Имеемся во едино сердце и блюдем Русскую землю» // Там же. С. 41–53; Былинин В.К. Древнерусская духовная лирика // Там же. С. 54–99; Богданов А.П. Летописец русского воеводы XVII века // Там же. С.100–110; Кавко А.К. Книжные традиции Скорины // Там же. С. 111–125; Криволапов В.Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние традиции // Там же. С. 126–149; Дмитриев А.Б. Православные традиции в российской хозяйственной культуре XIX – начала XX века // Запад-Россия-Восток. 2017. № 11. С. 41–46; Банных С.Г. Православная
культура и философия XIX–XX веков // Философские и исторические исследования : сборник научных статей / сост. С.Б. Борисов, Н.Ф. Чипинова. Шадринск, 2019. С. 24–27.
-
2. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2 т. Москва: Шк. «Языки рус. культуры», 1995–1998. 875 + 863 с.; Павлов Д.Б. Русская православная церковь, государство и общество в первой четверти XX в. в зарубежной историографии. Российская история. 2011. № 5. С. 163–172; Еремин А.В. Православные доминанты русской культуры в эпоху глобализации на рубеже XX–XXI вв.: опыт трансдисциплинарных исследований // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 101–113.
-
3. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. Т. 2. М., 1991. 576 с.
-
4. Голубинский Е.Е. История русской церкви. В 2 т. Т. 1. Период первый, Киевский или домонгольский. М., 1901. 968 с.
-
5. Там же. С 339.
-
6. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. Т. 2.: Период второй, Московский. От нашествия монголов до митрополита Макария включительно. М., 1900. 900 с.
-
7. Там же. С. 67.
-
8. Филиппов Н.Н. Святой Стефан, епископ Пермский. СПб, 1895. 20 с.; Попов Евг., прот. Святитель Стефан
Великопермский. Пермь, 1885. 94 с.; Толстой М.В. Рассказы по истории русской церкви. В 5-ти книгах. Книга 2. М., 1901. С. 189–194.
-
9. Голубинский Е.Е. Указ. соч. Т. 2. С. 262.
-
10. Там же. С.265.
-
11. Там же. С. 269, 271.
-
12. Там же. С.280.
-
13. Там же. С.287.
-
14. Там же. С.292.
-
15. Там же.С. 350.
-
16. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. Т. 2. Период второй, Московский. От нашествия монголов до митрополита Макария включительно. М., 1911. 616 с.
-
17. Там же. С. 131.
-
18. Доброклонский А.П. Руководство по истории русской церкви. Вып. 4: (Синодальный период 1700–1890 г.). М., 1893. 441 с.
-
19. Там же. С. 534–535
-
20. Там же. С. 165–166
-
21. Там же. С.547.
-
22. Тамже.
-
23. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1876. 482 с.
-
24. Там же. С.49.
-
25. Там же. С.95.
-
26. Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 126.
-
27. Там же. С.145.
-
28. Там же. С.181.
-
29. Карташев А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 262.
Редактор: Шейхетова Ирина Александровна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Историография православной культуры на рубеже XIХ-ХХ вв
- Трубачев О.Н. В поисках единства. Мысли по случаю тысячелетия русской культуры // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 6-30.
- Иннокентий Просвирнин, архиманд. Тысячелетие русской книжности // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 31-40.
- Горский А.А. "Имеемся во едино сердце и блюдем Русскую землю" // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 41-53.
- Былинин В.К. Древнерусская духовная лирика // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 54-99.
- Богданов А.П. Летописец русского воеводы XVII века // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С.100-110.
- Кавко А.К. Книжные традиции Скорины // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 111-125.
- Криволапов В.Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние традиции // Прометей: Ист.-биог. альм. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990. С. 126-149.
- Дмитриев А.Б. Православные традиции в российской хозяйственной культуре XIX - начала XX века // Запад-Россия-Восток. 2017. № 11. С. 41-46.
- Банных С.Г. Православная культура и философия XIX-XX веков // Философские и исторические исследования: сборник научных статей / сост. С.Б. Борисов, Н.Ф. Чипинова. Шадринск, 2019. С. 24-27.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2 т. Москва: Шк. "Языки рус. культуры", 1995-1998. 875 + 863 с.
- Павлов Д.Б. Русская православная церковь, государство и общество в первой четверти XX в. в зарубежной историографии. Российская история. 2011. № 5. С. 163-172.
- Еремин А.В. Православные доминанты русской культуры в эпоху глобализации на рубеже XX-XXI вв.: опыт трансдисциплинарных исследований // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 101-113.
- Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. Т. 2. М., 1991. 576 с
- Голубинский Е.Е. История русской церкви. В 2 т. Т. 1. Период первый, Киевский или домонгольский. М., 1901. 968 с
- Голубинский Е.Е. История русской церкви. В 2 т. Т. 1. Период первый, Киевский или домонгольский. М., 1901. С 339.