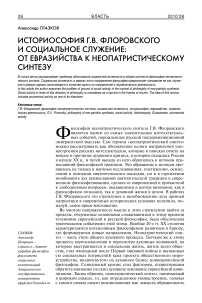Историософия Г.В. Флоровского и социальное служение: от евразийства к неопатристическому синтезу
Автор: Глазков Александр Петрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает проблему обоснования социальной активности в общем контексте философии неопатристического синтеза. Социальная активность в рамках этого направления философии предполагает понимание ее как служения в рамках церкви. Представление о таком социальном служении предполагает в качестве одного из направлений и экуменическую деятельность.
Г.в. флоровский, философия неопатристического синтеза, социальная активность, историософия, евразийство, экуменическая деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165480
IDR: 170165480
Текст научной статьи Историософия Г.В. Флоровского и социальное служение: от евразийства к неопатристическому синтезу
Ф илософия неопатристического синтеза Г.В. Флоровского является одним из самых значительных интеллектуальных событий, порожденных русской послереволюционной эмигрантской мыслью. Сам термин «неопатристический синтез» можно рассматривать как обозначение целого направления умонастроения русских интеллектуалов, которые в поисках ответа на вопрос о причинах духовного кризиса, в котором оказалась Россия в начале XX в., и путей выхода из него обратились к истокам православной философской традиции. Это обращение к истокам проявилось не только в научных исследованиях, постижении, осмыслении и освоении святоотеческого наследия, но и в стремлении возобновить дух православной святоотеческой традиции в современном философствовании, сделать ее современной и причастной к злободневным вопросам, оказавшимся в центре внимания, как в философском познании, так и духовной жизни в целом. В работах Г.В. Флоровского это стремление к возобновлению духа древней патристики в современных исторических условиях получило, пожалуй, самое яркое воплощение.
ГЛАЗКОВ Александр
Во многом напряженность мысли в этом стремлении выйти за пределы, очерченные основными сложившимися к этому времени течениями европейской и русской философии, была обусловлена трагическими событиями этой эпохи. Вообще 20-е гг. XX столетия характеризуются интенсивным философским развитием в Европе, где формируются новые направления. Неопатристический синтез – часть этого общего духовного процесса. Толчком же к этому процессу переосмысления и пересмотра духовных оснований, на которых выстраивается и социальная жизнь, жизнь всего общества, стал очевидный после Первой мировой войны и вызванных ею социальных потрясений крах проекта общественного мироустройства, воздвигнутого на духовном базисе новоевропейской философии. Социальный кризис стал фактором, подвигнувшим обратить внимание на само духовное основание европейской цивилизации. Таким образом, неопатристический синтез, понимаемый в широком смысле, т.е. как определенное умонастроение, означал с самого начала своего возникновения как замысла обращенность к духовным и социальным проблемам общественного развития, т.е. общественную направленность.
Именно в кризисные времена начинается интенсивный и напряженный поиск причин бедственного состояния общества. Кризис указывает на порочность прежних духовных оснований, на которых, как на фундаменте, выстраивалось все общественное бытие. В этой напряженной работе рассматриваются и сравниваются все возможные типы духовности, альтернативные прежним, обанкротившимся. Цель поиска – найти истинные духовные опоры, дающие наибольшую устойчивость обществу и утверждающие справедливые условия социального общежития, более всего соответствующие нравственному здоровью человека. Такой историософский по сути поиск сам по себе имеет огромное значение для исторической эпохи. Для нас же, для нашей современности актуальность видится как в исследовании самого опыта этого поиска, каким образом и через какие этапы он проходил, так и в изучении и, если надо, в усвоении выдвинутых и обоснованных мыслителями найденных вариантов духовных оснований общественной жизни. В условиях современной кризисной ситуации, когда жизнь общества весьма далека от должной стабильности, также необходимо обратить внимание на духовные основания нашего общественного бытия. Возможно, единственным выходом для нас станет именно обращение к истокам нашей духовности. Изучая опыт неопатристи-ческого синтеза, мы вместе с Флоровским и его единомышленниками как бы снова возобновляем начатый еще в 20-е гг. XX в. поиск истины. Причем делаем это не от праздного любопытства, пребывая в благополучии, а от насущной и безотлагательной необходимости.
Изучение философии неопатристи-ческого синтеза, таким образом, имеет большое значение. Помимо чисто исследовательского интереса, который касается рассмотрения условий формирования не-опатристического синтеза, этапов его становления и развития, выяснения степени его влияния, определения особенностей его стиля философствования и рассмотрения самого содержания философских идей, в нем есть и опыт разработки критериев, которые можно применить и для оценки современных нам событий.
В данной работе мы затрагиваем, пре- жде всего, некоторые аспекты проблемы социальной активности, которая как составной момент входит в общую идею неопатристического синтеза. Цель статьи – подчеркнуть значение этого социального момента в общей идее неопатристи-ческого синтеза, которая, на наш взгляд, может рассматриваться как его характерная важнейшая особенность, отличающая его от других направлений православного философствования. Для нас важно исходное понимание того, что неопатристичес-кий синтез невозможно представить или рассматривать в отрыве от всей социальной и даже политической проблематики, которая и подтолкнула процессы его формирования. Патристическим он называется потому, что должен быть верен духу святых отцов православной церкви, неопатристическим – «поскольку адресуется новому веку, с характерными для него проблемами и вопросами»1. Уже в самом этом разъяснении сути неопатристичес-кого синтеза Флоровский дает указание на его принципиальную обращенность к современности. Слово «синтез» означает в таком контексте, по словам самого Флоровского, творческую переоценку прозрений, ниспосланных святым отцам христианской древности. Под переоценкой здесь надо понимать новое обращение к святым отцам, но «не для того, чтобы просто процитировать их, а чтобы проникнуться их духом, духом великой христианской традиции. Постигая подход святых Отцов к проблемам, с которыми они сталкивались, классическим проблемам истолкования христианской веры, чуждого миру, мы вооружаем себя для творческого решения наших собственных жизненных задач»2. В этой формуле неопатристичес-кого синтеза, которую дал Флоровский уже в конце своей чрезвычайно плодотворной жизни, выражена вся его суть. Усвоить основания, которые находятся духовно за пределами этого раздираемого противоречиями мира, чтобы потом применить их к этому временному исторически существующему миру с целью решения насущных жизненных задач. К понятию жизненных задач мы должны отнести не только наши личные недоумения и трудности, но в т.ч. и те проблемы, которые встают перед нами в сфере общественной жизни. Иными словами, речь может идти о выявлении, усмотрении, осознании и понимании проблем современности через призму учения святых отцов христианской церкви, которое само по себе не от мира сего. Флоровский принципиально стоял за то, чтобы не бежать от этих проблем современности, не уклоняться от них, а посильно и в своем призвании решать эти проблемы, будучи вооруженным уникальными возможностями познания этого мира. В этом заключается, на наш взгляд, суть понимания творческого обращения к святым отцам, т.е. к патристике.
Формирование интеллектуального настроя, который отлился у Флоровского в дальнейшем в концептуальную форму неопатристического синтеза, судя по всему, начинается независимо от его участия в евразийском движении. Большое влияние на Г.В. Флоровского оказал известный русский богослов, профессор Н.Н. Глубоковский, с которым он состоял в личной переписке и чьи идеи «византийско-церковного эллинизма» были в какой-то степени им от него восприняты. Рассматривая процесс формирования философских взглядов Флоровского, А.В. Черняев заключает, что «у Глубоковского Флоровский мог найти почти все ключевые идеи, развитие которых стало содержанием будущего “неопатристического синтеза”»1. Но, безусловно, опыт участия в этом движении оказал большое влияние на процесс формирования контуров будущего неопатрис-тического синтеза. Сам этот опыт для нас интересен в том отношении, что позволяет выявить, какого рода социальную активность Флоровский имел в виду, говоря о решении жизненных задач.
Само участие в евразийском движении подтверждает стремление Г.В. Флоровского реализовать себя в сфере социального действия. Однако это движение содержало в себе сильнейшую тенденцию к политической идеологизации всей работы. Для Флоровского это было неприемлемо. Этот русский мыслитель с самого начала был против того, чтобы свести всю активную практическую деятельность только к политике. С точки зрения складывающегося у него тогда философского мировоззрения это было неоправданно узко как для понимания, так и для успешного разрешения тех колоссальных и по своему объему, и по своей значимости задач, прежде всего духовных, перед необходимостью решать которые оказалась русская интеллигенция. По Флоровскому, именно духовная, т.е. культурно-воспитательная, работа должна быть первичной по своему значению. Эта работа должна предшествовать всей остальной, в т.ч. и политической. Так, в своем «Письме к П.Б. Струве об евразийстве» он пишет: «Понятием “политика” теперь злоупотребляют не менее, чем во дни “освободительного движения”, и безудержным размахом очерчивают для нее столь широкую сферу, что вне ее почти ничего и не остается. И теперь это, быть может, еще опаснее и соблазнительнее, чем было тогда. Интеллигентская психология по-прежнему остается пораженная тем же “нигилизмом”, тою же слабостью веры в самозаконность и в самоценность культурного творчества. Шкала ценностей по-прежнему остается извращенной, и “культура” в теперешней “белой” идеологии занимает такое же подчиненное место, как некогда в “красной”»2. Он пишет, что если «воля к культуре» будет заслонена только подчиненной политике деятельностью, то духовная гибель станет неизбежной. И Флоровский делает вывод: «Вот почему культурно-философская рефлексия мне представляется сейчас гораздо более важным и насущным национальным делом, чем текущая политическая борьба»3.
В евразийстве Флоровский первоначально видел возможность организации работы по вскрытию причин духовного кризиса, по его преодолению, по консолидации усилий в борьбе за внутреннее преображение русского духовного развития, привлечение к этой деятельности крупных мыслителей русской эмиграции. Но его надежды на евразийское движение и его организационно-идейные рамки для решения духовной культурной задачи преображения не оправдались. Обнаружившееся среди его активных участников стремление к политизации и идеологизации «евразийского проекта» оказалось сильнее той его возможной ду- ховной составляющей, на которую возлагал надежды Флоровский. Все это было следствием изначально заложенного в евразийской идее основополагающего момента «геософского редукционизма», что сужало духовные возможности движения и способствовало идеологизации самих философских представлений евразийцев. Как замечает А.В. Семушкин, «евразийское философствование собственно и сводится к попытке построения метафизически обоснованной идеологии»1. Разногласия между Флоровским и другими евразийцами оказались гораздо глубже и касались самих философских оснований идеи создаваемого движения. Философские основания евразийства лежали не в той духовной плоскости, которая могла бы обеспечить необходимую, по Флоровскому, постановку задач по духовной культурной деятельности. Истинное, с точки зрения Флоровского, зерно духовной деятельности оказалось отринутым из-за увлечения идеологическими по духу конструкциями, на которых возможно было создать только ограниченное от всех остальных сил своего рода политизированное сектантство. Сам Флоровский позднее написал об этом: «Судьба евразийства – история духовной неудачи. … В евразийских грезах малая правда сочеталась с великим самообма-ном»2. Флоровский же, который стоял на позициях православного мировоззрения, видел задачу установления именно этого православного по духу основания для преодоления духовного кризиса. Но евразийцам требовалась не философия, а, скорей всего, идеология, которая обосновывала их геософские конструкции. Неудачный опыт участия в евразийском движении, думается, оказал стимулирующее влияние на дальнейшее формирование будущей концепции неопатристического синтеза, придал этому процессу дополнительный импульс.
Для Флоровского фактически надо было начинать с начала, и это возвращение к началу оказалось очень продуктивным. Он писал уже после выхода из евразийского движения: «Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути»3. После выхода из евразийского движения Флоровский сосредоточился на преподавательской работе и на теоретическом осмыслении новых путей социальной активности.
Значительную роль сыграло приглашение его преподавать патристику в Парижский Свято-Сергиевский богословский институт. С 1926 г. он начинает читать древнюю патристику, интенсивно осваивая философское и богословское наследие святых отцов церкви. В течение четырех лет шел процесс овладения этим сложным предметом преподавания4. На этот момент, может быть даже и в какой-то степени решающий для формирования нового отношения к патристике среди русских европейски образованных философов, стоит обратить особое внимание. Дело в том, что сам Флоровский богословского образования не имел. У него была основательная начитанность в европейской философии, в т.ч. и в современной, и было лишь предварительное знакомство с трудами святых отцов. В уникальном сочетании оказался внутренний поиск талантливого мыслителя, и, что важно еще раз подчеркнуть, минуя богословское образовательное введение, основательное знакомство по первоисточникам с богатейшей святоотеческой философской традицией и настрой на византийский эллинизм, заданный в том числе и идеями Глубоковского. Все это накладывалось на общее духовное настроение напряженного поиска твердых духовных оснований, которое владело Флоровским. Такое настроение складывалось через обостренное в эмиграции чувство оторванности от родины, переживание духовной катастрофы, ответственность за которую несла отчасти и русская интеллигенция. К этому можно добавить еще литературный талант и незаурядный дар полемиста и публициста, которым в полной мере владел Флоровский. Это был очень насыщенный и в высшей степени продуктивный процесс творческого синтеза. В этом синтезирующем процессе мы можем обозначить основные примечательные моменты рассматриваемого нами учения неопатристического синтеза, которые отличают его от других философских направлений, существовавших в русской эмиграции XX в.
Во-первых, это обращение к самим истокам христианского философствования. Неопатристический синтез представляет собой своего рода попытку воссоздать интеллектуальным образом, в новых условиях процесс, сам дух патристического синтеза. В этой своей деятельности Флоровский опирался, в первую очередь, на христианское Откровение, изложенное в Священном Писании, и на основывающиеся на нем труды святых отцов православной церкви.
Во-вторых, это сохранение связи с русской философской традицией. Неопатристический синтез находится внутри нее и может рассматриваться как продолжение отдельных ее тенденций и направлений1. Это хорошо видно в стремлении Г.В. Флоровского выявить в русских философских учениях объективные достижения, способствующие раскрытию всей сложной проблематики понимания духовной ситуации современности. Патристика имела к русской философской традиции самое прямое отношение, но сама она, за немногочисленными исключениями, оказалась за границами внимания русской по-европейски образованной интеллигенции. Флоровский как бы возвращал в русскую интеллектуальную философскую среду это духовное наследие.
В-третьих, это сохранение и даже углубление характерного для всей русской философской традиции историософского аспекта понимания духовного развития человечества. Философия истории, понимание историчности духовных процессов являются одними из важнейших тем для неопатристического синтеза Г.В. Флоровского на протяжении всего его творческого пути.
В-четвертых, это сохранение связи с европейским философским наследием и современным философским сообществом. Неопатристический синтез открыт для диалога со всеми философскими направлениями. И речь идет об активном участии в дискуссиях не только по актуальным проблемам современного ми- ра, но и по проблемам развития самого философского знания. Многие понятия современной философии заимствовались, переосмысливались и включались Флоровским в ткань своего философского языка.
В-пятых, что очень важно еще раз специально подчеркнуть, это установка на социальную активность, обращенность к решению жизненных задач современности. Г.В. Флоровский обращался к насущным задачам современности не только в своих работах, но и в своей многогранной деятельности. Он лично и на деле пытался реализовать идеи своего рода активного социального и культурного по своим задачам служения, которое вытекало из исходных мотивов формирования неопатристи-ческого синтеза.
Неопатристический синтез – это философия, призывающая к активной социальной деятельности, точнее, к некоему особому в рамках православной церкви духовно-социальному культурному служению. Так как оно опирается на христианское вероучение, оно не узко националистическое и не узко идеологическое, а общемировое и культурно-воспитательное, в соответствии с вселенской задачей христианской церкви. Эта социальная активность должна иметь два составных момента, неразрывно и органично соединенных между собой: духовный, сверхмировой и материальный, т.е. мировой и социальный. Патристика – философия духовная. Социальная активность – дело мирское. Такое соединение духовного и материального в единое целое в рамках христианства можно было осуществить только в церкви. А в церкви социальную активность можно обозначить уже как служение. Поэтому не случайно, что о. Георгий Флоровский избрал сферой своего духовно-социального служения то пространство работы, в котором соприкасается это небесное и земное, духовное и материальное, где зачастую бывает трудно даже установить границы между ними. Таким образом, речь идет, в первую очередь, о социально-духовном пространстве церковной работы. Те новые пути, о которых говорил Флоровский в своей работе «Евразийский соблазн», теперь получили определенность и очертания.